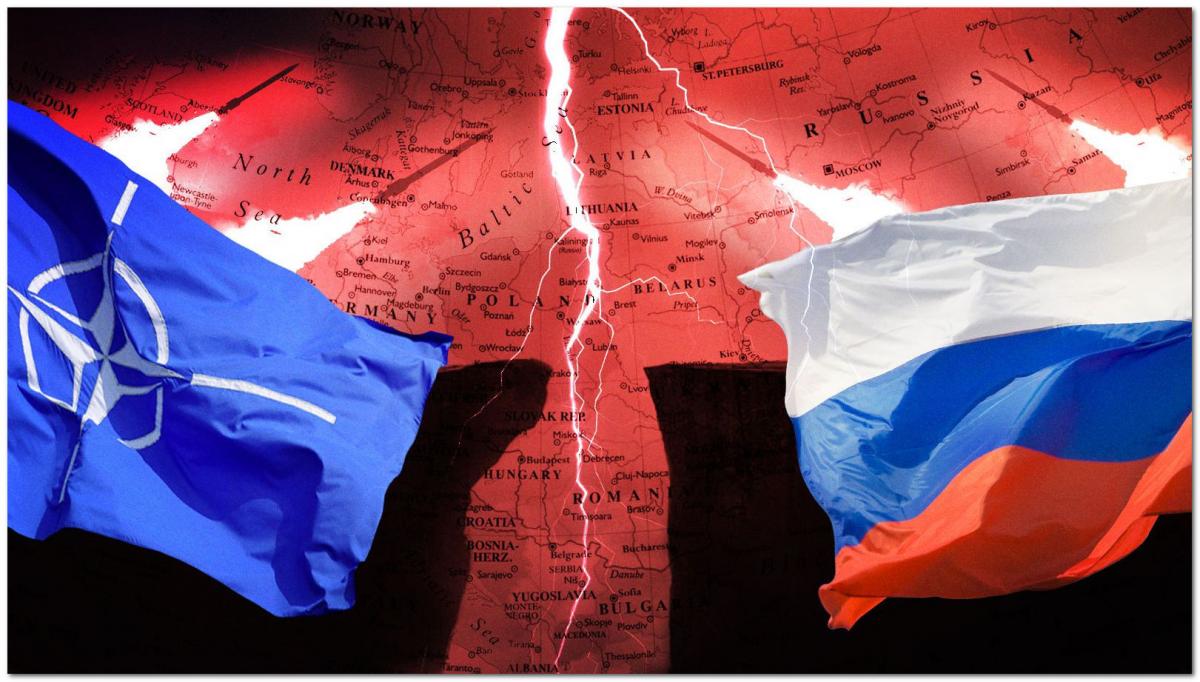
База любой военной теории должна быть как можно шире[1]
Б. Гарт, военный теоретик
СВО России на Украине 2022 года стала серьёзным испытанием эффективности, существующей национальной, экономической, социальной и военной стратегий и концепций[2], существовавших в России, а также её военной доктрины[3] и стратегического планирования, всего механизма государственного управления, обеспечения развития страны и национальной безопасности. Их реализация проходила в кризисных условиях, когда искусственные наслоения и ошибки сказывались особенно болезненно. Прежде всего, естественно, в ходе собственно реализации СВО. Так, замораживание 300 млрд долл. ЗВР страны в самом начале СВО — пример не только концептуального бессилия финансовых властей, но и подтверждение ошибочной финансово-экономической стратегии ЦБ и Минфина[4].
Зависимость микроэлектроники страны от импорта — не просто пример неспособности Минпромторга организовать импортозамещение, но и качественные недостатки в промышленной стратегии, которые частично были признаны только в июне 2022 года, что, впрочем, не повлияло на быстрое изменение в отраслях ОПК[5]. В сентябре 2022 года В.В. Путин констатировал, что «Организациям ОПК необходимо в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемого вооружения и техники в войска, средства поражения. Необходимо решить и проблему своевременного и полного обеспечения предприятий ОПК отечественными комплектующими, деталями, узлами и материалами. Сфера ОПК — это как раз та область, где все программы импортозамещения должны быть безусловно реализованы. Где-то в других местах это не так важно и не так существенно, да и не нужно на самом деле, нам стопроцентного импортозамещения не нужно. А здесь нужно. Поэтому необходимо в кратчайший период нарастить производственные возможности, максимально загрузить оборудование, оптимизировать технологические циклы и, не снижая качества, сократить при этом сроки производства»[6].
Поэтому очень полезно попытаться хотя бы коротко рассмотреть основные вероятные последствия для этих областей, полученные в результате такого «стресс-теста». Тем более, что весь 2022 год в стране, прежде всего в СМИ, но также в научных коллективах эта тема ежедневно бурно обсуждалась в самых разных аспектах[7].
Очень трудно, если вообще возможно, провести точный количественный анализ эффективности стратегии хотя бы потому, что далеко не всякая военная победа (или поражение) равнозначны политической, а, тем более, национальной победе. Далеко не всякое государственное и национальной управление с точки зрения их эффективности точно измеряется неким количеством критериев[8], в частности, в России такую попытку предприняли авторы Концерна ВКО «Алмаз-Антей», которые попытались предложить набор количественных критериев (на мой взгляд, спорных и условных, но, тем не менее, дающих возможность) дать некую оценку эффективности власти (государственного управления), где итог выражался в сопоставлении положительных и отрицательных критериев порядка 30 укрупнённых критериев — «устойчивости международного положения» до «доступности качественного образования и медицины» («+» и «–»). Примечательно, что на третьем месте был размещён критерий «наличие стратегии развития», который также был оценён как «–» и «+». У авторов работы количество плюсов и минусов оказалось поровну, что позволило им сделать вывод о том, что «нет необходимости в радикальной смене власти», но «существует потребность её совершенствования»[9].
Общее правило, на мой взгляд, таково: любая эффективная военная стратегия (в том числе российская, которая стала предметом многочисленных обсуждений в РФ в 2020–2022 годах) становится таковой, когда, она, во-первых, основывается на максимально широком теоретическом и историческом фундаменте (и здесь гениальный Б.Л. Гарт прав), а, во-вторых, максимально быстро учитывает изменения, которые происходят в результате практических действий потому, что ни одна действующая стратегия не может повторять предыдущие[10]. В этом смысле военная стратегия стала прямым отражением ситуации с национальной стратегией развития и безопасности, которая формально существовала в качестве СНБ РФ с 2021 года, но неизбежно претерпела серьёзные изменения в 2022 году.
Иными словами, любая стратегия должна иметь фундаментальную и прикладную взаимосочетаемые основы, чтобы быть эффективной. Но ни первого, ни второго в России к 2022 году не было, точнее, — методологическая основа СНБ, созданная к 2021 году, была очень далека от политической практики, которая руководствовалась принципом ручного управления, а военная стратегия — продолжением советской стратегии, основанной на опыте Второй мировой войны и частично локальных войнах последних лет. Достаточно напомнить о «неожиданно» замороженных 300 млрд. долларов ЗВР, «незаконченном» (а кое где и не начатом) импортозамещении, наконец о плане СВО, который очень многое не предусматривал и не учитывал (хотя времени и средств на его подготовку было отпущено, как говорят, немало), в частности, «плана Б» проведения операции на Украине.
Лично я многократно выступал на разного рода авторитетных круглых столах, которые активно в те годы организовывала ВАГШ, с проблемой серийности и массовости в промышленном производстве ВВСТ, не раз и не два выступая в СМИ против тезиса о готовности ВС РФ в плане «как капусту порубаем» и «шапками закидаем», что, естественно, не находило поддержки у тех, кто услужливо доказывал, что мы «впереди планеты всей».
Тем не менее, ОПК и ВС РФ удивительно быстро стали исправлять просчёты, допущенные в СП (прежде всего, в закупке ВВСТ и организации ВС), что внесло оптимизм в оценку будущего качества управления.
Но отнюдь не избавила от необходимости поговорить об этом подробнее.
Так, СП в СНБ и, соответственно, военная доктрина, которая не успевала корректироваться в соответствии с изменениями в СНБ, была скорее традиционным отражением представлений о войне периода СССР, чем современных реалий[11]. Доминировали либо представления о «Большой войне», либо опыт локальных войн, которые, как оказалось, стали
бесполезны при планировании крупного регионального военного конфликта с участием развитых государств.
Между тем, есть одна общая и принципиально очень важная закономерность определения эффективности стратегии, о которой справедливо говорил Б.Л. Гарт, а именно: «на протяжении всей истории человечества результаты войны редко бывали эффективны, если действия были настолько непрямые, чтобы захватить противника врасплох. В стратегии самый длинный обходной путь часто является кратчайшим путём к цели»[12]. Эта особенность стратегии, которую можно назвать «универсальная асимметричность» действий, принципиально важна потому, что действия России в политике, экономике и СВО демонстрировали абсолютно противоположное — «частичную симметричность ответных действий», которые, как правило, всегда опаздывали, и, во-вторых, всегда были недостаточны. Как в политике, дипломатии, экономике, так и в военной области.
Во многом это объяснялось слабостью развития политической и военной науки в России, откровенным игнорированием её рекомендаций, приспособлением к западной парадигме и системе ценностей, сложившейся в последние десятилетия. В том числе и малочисленностью, и непрофессионализмом исследователей, что проявилось, например, в малочисленности профессиональных концепций. Прежний либерально-западнический клан РАН и университетов успели приспособиться к реалиям рыночной экономики и западной системе ценностей, не случайно в своём большинстве отказавшись поддержать СВО. Неформально он получил поддержку и части правящей элиты страны.
Соответственно, процесс разработки новых национально ориентированных концепций, которые и составляют в своей совокупности основу стратегия и доктрин, был фактически разрушен. Напомню, что все стратегии и доктрины РФ готовились группами либералов на основе субъективных (часто просто срисованных на Западе концепций) под руководством начальников ВШЭ и РАГСА, а также аппаратов Минэкономразвития и Минфина. Их главная особенность — приоритет макроэкономической стабильности в ущерб развитию, — которая периодически заканчивалась кризисом и стагнацией, а в худшем случае — нарастающим отставанием. Простой пример: отставание в развитие микроэлектроники, которое стало катастрофичным, не смотря на все формальные попытки исполнительной власти исправить ситуацию. Они закончились тем, что в сентябре 2022 года в очередной раз была принята уточнённая (пересмотренная) концепция развития микроэлектроники. Минпромторг подготовил обновлённую концепцию государственной политики по развитию российской микроэлектроники до 2030 года.
Отмечается, что в проекте «Основ государственной политики РФ в области развития электронной промышленности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу» зафиксированы ключевые проблемы отрасли: технологическое отставание от мирового уровня на 10–15 лет, зависимость от зарубежных технологий и материалов, острый кадровый дефицит, нехватка производственных мощностей, низкая инвестиционная привлекательность отрасли. Также обращается внимание на такие проблемы, как трудности с освоением технологических процессов ниже 180 нм., невозможность обеспечить рынок необходимой электроникой и высокая стоимость производства компонентов в России.
Для исправления ситуации Минпромторг предлагает участникам рынка… «координировать исследования в области передовых технологий, увеличить мощности, в том числе, за счёт освоения производства микроэлектроники с современными топологическими нормами, создать отрасль электронного машиностроения и отказаться от иностранных архитектур при проектировании электроники». Реализации этих инициатив должен поспособствовать упрощённый доступ производителей к грантам, субсидиям и кредитам на льготных условиях. По замыслу Минпромторга, меры поддержки будут осуществляться до 2030 года, в дальнейшем российская микроэлектроника начнёт экспансию на международные рынки[13].
Особенно широкое распространение такая практика получила в нарождавшейся в России политической науке. И не только политологии (и многочисленных, часто искусственных, смежных дисциплинах), но и в целом в социальных науках, в которых неизбежно отражались эти новации. В частности, в военной истории, всеобщей и российской истории, политической социологии и т. д. На практике это привело к тому, что после начала СВО значительное число учёных и преподавателей-гуманитариев откровенно выступили против, более того, многие даже публично, а другая часть заняла позицию идеологического и политического саботажа. Фактически это означало, что в России сформировалась оппозиция курсу на защиту национальных интересов и системы ценностей.
Это произошло, прежде всего, потому, что большинство гуманитарной элиты, воспитанной в духе Горбачёва-Ельцина, стало формировать и наиболее широкий спектр концепций, которые, как правило, не отражали национальных интересов страны. Важно напомнить, что «Концепция», как документ стратегического целеполагания, разрабатывается в том случае, если система концептуальных взглядов и управления на данном направлении обеспечения национальной безопасности или социально-экономического развития ещё не сформирована. В дальнейшем на смену концепции приходят доктрины и стратегии. Именно на этой стадии все разумные предложения, которые были изначально альтернативны либеральной парадигме, не допускались к продвижению и глушились. Между тем, субъективные смелые подходы были крайне необходимы как в военной науке и военном искусстве, так и в политической науке, но ориентированные на фундаментальной системе национальных ценностей и интересов.
Особенности СВО требовали ограничения не только информации о состоянии ВС, но и особенностях применения ВВСТ. В то же время ограниченные, полузакрытые, дискуссии в среде профессионалов продолжались, в частности в ВАГШ, но не влияли на СП в ВС.
Так, например, не получила в эти десятилетия развития дискуссии о роли ВДВ и особенностях развития Сухопутных войск, в частности, ПВО и штурмовых подразделениях, что отразилось в ходе СВО на Украине. Уже в процессе возникли многочисленные вопросы об облике ВДВ вообще, и то, в каком виде они применяются в наших войнах. В частности, о том устарело ли само по себе парашютное десантирование, как способ ввода сил в сражение или вступления в бой, это вопрос, относящийся к облику ВДВ вообще. Как и баланс между парашютными (если они нужны) и десантно-штурмовыми войсками на вертолётах, облик десантируемых боевых машин, если они нужны и так далее, правильно ли иметь эти войска в таких количествах, в которых они есть, и потом применять их как обычные механизированные части, что делать, когда десантников надо задействовать как обычные наземные части и так далее — это другой вопрос, и он будет рассматриваться с других позиций.
В 2022 году по итогам участия ВДВ в СВО в открытой печати были сформулированы вопросы, ответы на которые уже позволят нам определить именно облик будущих десантных войск[14].
1. Есть ли смысл в парашютном десантировании вообще? Какими силами? В каком составе десантируемых войск? Куда, зачем и в каких обстоятельствах? Можно ли отказаться от него в пользу высадки с вертолётов?
2. После ответа на первый вопрос — какими должны быть штаты ВДВ? Почему?
3. После ответа на второй вопрос — какой должна быть бронетехника ВДВ? Почему?
4. Нужна ли в ВДВ не десантируемая техника? Зачем?
5. Как должны соотноситься между собой численность ВДВ и военно-транспортной авиации? Важный вопрос, который обходят теоретики: что первично — численность ВДВ или ВТА?
6. Где и против какого противника эти войска должны применяться? При выполнении каких условий?
7. Какими системами оружия в принципе должен быть вооружён десант? Включая средства ПВО?
8. Как поделить человеческие ресурсы между ВДВ и СВ?
Авторы: А.И. Подберезкин, О.Е. Родионов
>>Часть II<<
[1] Лиддл Гарт Бэзил. Стратегия непрямых действий. М.: АСТ, 2018, с. 23.
[2] Концепция — зд.: в СП, как правило, достаточно субъективный комплекс взглядов на чтолибо, связанных между собой и образующих некую единую систему. Пример: «Концепция социально-экономического развития РФ 2008 г», представляющая собой «взгляд» МЭР того периода.
[3] Доктрина (официальная) — зд.: система официально принятых теоретических и методологических взглядов, т.е. условное понятие, представляющее собой совокупность теоретических представлений о целях, принципах и правовых формах политики (стратегии).
[4] Подберёзкин А.И. Национальная стратегия в 20-е годы XXI столетия: возможные и вероятные варианты (сс. 365–376). В кн.: Тенденции развития системы международных отношений и их влияние на управление национальной обороной Российской Федерации: сборник материалов
круглого стола (19 августа 2022 г.) / под общ. ред. А.С. Коржевского; ВАГШ ВС РФ. М.: Издательский дом «УМЦ», 2022. 544 с
[5] Средства защиты российской идентичности: монография / О.В. Боброва, А.И. Подберёзкин. Подольск: ПФОП, 2022. 416 с.
[6] Встреча Президента России с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса / ВПК, 23.09.2022 / https://vpk.name/news/633534_vstrecha_prezidenta_rossii_s_rukovoditelyami_predpriyatii_oboronno-promyshlennogo_kompleksa.html
[7] См. подробнее: Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. Современная национальная стратегия России в области военной безопасности. Монография. М.: МГИМО-Университет, 2022, 440 с.
[8] Многие институты в мире, прежде всего, международные пытаются разработать подобные критерии и ввести их в практический оборот в качестве самых разных показателей и индикаторов. См., например: Индикаторы мирового развития: монография / кол. авт. под ред. Л.М. Капицы. 3-е изд., перераб и доп. М.: КНОРУС, 2021. 556 с.
[9] Становление, развитие и совершенствование власти в России: монография / А.А. Голованов. М.: ООО «Айти Сервис», 202, с. 99.
[10] К сожалению, российская военная наука повторяет во многом ошибки советской, разделяя искусственно фундаментальную и прикладную составляющие. См.: Даниленко И. Классика всегда актуальна. В кн.: Стратегия в трудах военных классиков. М.: Издательский дом «Финансовый контроль», 2003, с. 15.
[11] Военная доктрина, как официальный документ, должна пересматриваться в соответствии с новой редакцией СНБ, в частности, утверждённой указом Президента РФ №400 3 июля 2021 года, чего ни в тот году, ни в 2022 не произошло (как не происходило и до этого
[12] Лиддл Гарт Бэзил. Стратегия непрямых действий. М.: АСТ, 2018, с. 24.
[13] Минпромторг подготовил обновлённую стратегию развития микроэлектроники / Коммерсант, 14.09.2022 / https://ria.ru/20220913/mikroelektronika-1816373659.html
[14] Реформа ВДВ в свете опыта боев на Украине и предшествующих войн / Военное обозрение, 13.09.2022 / https://dzen.ru/media/topwar.ru/reforma-vdv-v-svete-opyta-boev-na-ukraine-ipredshestvuiuscih-voin-631fdbc18cc36e66cdc88d98?&




