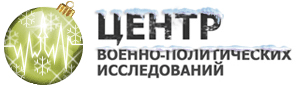15 февраля 2018 г. в Институте стран СНГ был проведен семинар на тему «Проблемы текущего состояния и развития Шанхайской организации сотрудничества». В нем приняло участие свыше тридцати экспертов из Института востоковедения РАН, Института Дальнего Востока РАН, Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН, Российского института стратегических исследований, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Московского государственного института международных отношений МИД РФ, Национального исследовательского университета «МЭИ» (Московский энергетический институт), Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы, Российского государственного гуманитарного университета и ряда общественных организаций. Всего в рамках проведения этого мероприятия было подготовлено одиннадцать докладов.
Актуальность проведения указанного семинара была обусловлена тем обстоятельством, что в июне 2017 г. в ходе Астанинского саммита ШОС был завершен процесс присоединения к этой организации Индии и Пакистана. Это ознаменовало собой качественное изменение ШОС. На фоне глобальной нестабильности, повышения террористической активности и обострения социально-экономических проблем на территории «шосовской семьи» существует реальная возможность ослабления ШОС. Это требует не только своего изучения, но и обмена мнениями на экспертном уровне в рамках «шосовской семьи».
В ноябре 2017 года Институт стран СНГ получил финансовую поддержку от Фонда президентских грантов с целью проведения в Сочи 17-18 апреля 2018 г. Второго Сочинского форума евразийской интеграции «Перспективы развития и укрепления Шанхайской организации сотрудничества». В рамках подготовки указанного форума был проведен опрос иностранных экспертов из 14 стран «шосовской семьи» по наиболее актуальным вызовам и угрозам, стоящим перед Шанхайской организацией сотрудничества. В ходе семинара российские эксперты обсудили полученную информацию.
Для обсуждения в рамках семинара были предложены следующие вопросы:
- вызовы и угрозы, стоящие перед Шанхайской организацией сотрудничества;
- российско-китайское взаимодействие на пространстве Евразии;
- первые итоги деятельности Индии и Пакистана в рамках ШОС;
- иранский фактор в развитии ШОС;
- пути реализации потенциала ШОС для урегулирования афганского кризиса;
- перспективы создания «Большой Евразии».
Семинар открыл заместитель директора Института стран СНГ, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Евсеев Владимир Валерьевич. В своем выступлении он отметил организационные моменты предстоящего Второго Сочинского форума евразийской интеграции «Перспективы развития и укрепления Шанхайской организации сотрудничества», который пройдет в Сочи 17-18 апреля 2018 г. Выступающий заметил, что ввиду актуальности ближневосточной тематики и продолжения сирийского вооруженного конфликта на предстоящий форум планируется пригласить представителя из Дамаска. Далее эксперт объявил о проведенном экспертном опросе (по email) участников «шосовской семьи» из 14 стран, который был предварительно разослан участникам семинара.
В.В. Евсеев сообщил, что результаты опроса будут учтены при составлении секционных заседаний и программы Второго Сочинского форума евразийской интеграции. Он также попросил российских участников семинара прислать свои предложения относительно актуальных тем выступлений на секциях Форума.
Далее с докладом выступил Клименко Анатолий Филиппович, заместитель руководителя Центра изучения стратегических проблем Северо-Восточной Азии и ШОС Института Дальнего Востока РАН, генерал-лейтенант в запасе. Он озвучил предложения, которые могли бы помочь Шанхайской организации сотрудничества дать адекватный ответ на вызовы, стоящие перед участниками организации. Эксперт заметил, что данные предложения прошли эволюцию от неприятия как в Министерстве иностранных дел России, так и в Секретариате ШОС до принятия к рассмотрению.
Следует заметить, что в 2014 году на заседании министров иностранных дел ШОС в г. Душанбе министр иностранных дел России С. Лавров предложил преобразовать Региональную антитеррористическую структуру (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества в Центр по борьбе с вызовами и угрозами. В дальнейшем эту идею развил министр обороны России С. Шойгу. Он предложил создать Аппарат национальных военных советников, который бы выступил координатором для руководства стран-членов ШОС по обеспечению безопасности на пространстве рассматриваемой организации. Данный вопрос, заметил эксперт, находит определенное понимание со стороны Китая, что в перспективе может привести к его реализации.
Относительно конкретных предложений экспертного сообщества А.Ф. Клименко в своем выступлении высказал мысль о том, что, во-первых, необходимо создать Комитет координации и сотрудничества по безопасности (ККСБ), который бы способствовал росту эффективности реализации программ развития вооруженных сил членов ШОС, а также повышению уровня их подготовки. Вместе с тем, полагает эксперт, ККСБ обеспечил бы военную и военно-техническую координацию сотрудничества между государствами-членами ШОС. Во-вторых, мог бы быть создан оперативный миротворческий контингент. Апробация соответствующего опыта уже проходит в рамках военных учений стран ШОС «Мирной миссии» и двухсторонних военных учений России и Индии «Индра».
В заключение А.Ф. Клименко сделал вывод о том, что ШОС пока не имеет эффективной структуры по обеспечению безопасности, так как РАТС выполняет исключительно мониторинговую миссию по обмену информацией между государствами-членами ШОС. Для повышения эффективности ШОС в области безопасности эксперт предложил создавать коалиции «по интересам», учитывая напряженность во взаимоотношениях между Китаем и Индией, Индией и Пакистаном.
Ведущий эксперт МГИМО (У) МИД РФ, военный эксперт, Козин Владимир Петрович в своем выступлении раскрыл сущность принятых в конце прошлого и начале 2018 г. администрацией Трампа трех военных стратегий: «Стратегия национальной безопасности», «Стратегия национальной обороны» и ядерная доктрина в виде «Обзора ядерной политики».
Согласно «Стратегии национальной безопасности», основная угроза США и их союзникам исходит от России и Китая, которые играют заметную роль в ШОС. Оба государства квалифицируются в этой стратегии как «соперники США» и «ревизионистские государства», которые, «бросают вызов американской мощи, влиянию и интересам». Москва и Пекин обвиняются в том, что также наращивают военные потенциалы, которые «могут угрожать» критически важной инфраструктуре, а также командно-управленческим системам США.
Исходя из «Стратегии национальной обороны», США будут создавать прочные коалиции «с целью консолидации успеха», якобы достигнутого в Афганистане – еще одном государстве-наблюдателе ШОС. Увеличение там вооруженных сил (ВС) США до 13 тыс. чел. и в операции коалиции «Resolute Support» до 16 тыс. чел. приведет к обострению военно-политической обстановки в этой стране.
Докладчик заметил, что ко многим странам, имеющим различный статус в ШОС, может быть применена «Глобальная оперативная модель» (Global Operating Model) использования объединенных вооруженных сил США. При этом ВС США должны быть способны вести боевые действия с задействованием обычных и ракетно-ядерных, космических и кибернетических средств в рамках концепции «Динамичного применения вооруженных сил» (Dynamic Force Employment Concept), предусматривающей их срочную перегруппировку для решения внезапно поставленных задач приоритетного характера. Обе такие установки содержатся в «Стратегии национальной обороны» (2018 г.).
В «Стратегии национальной обороны» перед американскими вооруженными силами открыто поставлена задача: «сдерживать агрессию в трех ключевых регионах: Индо-тихоокеанском регионе, в Европе и на Ближнем Востоке». В новой ядерной стратегии США присутствует возможность применения ядерного оружия в первом ударе практически против любого государства, в том числе при использовании против США сил общего назначения. Исходя из этого эксперт делает вывод о том, что три новые стратегии могут создавать угрозу безопасности как отдельным государствам, имеющим различный статус в ШОС, так и всей организации в целом. В качестве ответной меры докладчик предложил усилить обмен мнениями по военно-политическим вопросам в рамках организации (текст его выступления следует ниже).
Козин Владимир Петрович – ведущий эксперт
Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России,
член-корреспондент Российской академии естественных наук,
профессор Академии военных наук Российской Федерации,
член Научного совета Национального института исследований глобальной безопасности
Военно-политические последствия новых военных стратегий США для ШОС: анализ и практические предложения
Принятые в конце прошлого и начале этого года администрацией Д. Трампа три актуализированные военные стратегии («Стратегия национальной безопасности», «Стратегия национальной обороны» и ядерная доктрина в виде «Обзора ядерной политики») самым непосредственным образом затрагивают национальную безопасность ряда государств, имеющих различный статус участия в ШОС, и эту организацию в целом.
В «Стратегии национальной безопасности» безосновательно фиксируется, что основная угроза Соединенным Штатам и их союзникам исходит от России и КНР, которые играют заметную роль в ШОС. Оба государства квалифицируются в этой стратегии как «соперники США» и «ревизионистские государства», якобы, «бросающие вызов американской мощи, влиянию и интересам», как наращивающие военные потенциалы, которые «могут угрожать» критически важной инфраструктуре, а также командно-управленческим системам США.
В данном контексте следует учитывать, что в ближайшие пять лет США намерены вложить в военный бюджет 3,6 трлн. долл., упор в котором будет сделан на противодействие России и КНР. В частности, на 2019 год Д. Трамп запрашивает на 19 млрд. долл. больше, чем расходы на оборону в текущем году, которые определены в размере около 700 млрд. долл. В проекте бюджета на 2019 год предполагается увеличить статью расходов на непосредственное «сдерживание России» — с 4,8 млрд. в 2018 году до 6,5 млрд. долл. в 2019 году.
Вашингтон оказывает сильное давление на члена ШОС Пакистан. Государством, проводящим деструктивную политику в районе Ближнего Востока, в новых американских стратегиях названо государство-наблюдатель ШОС Иран, который обвинен в дестабилизации региональной обстановки, разработке баллистических ракет и в готовности обрести ядерное оружие.
В «Стратегии национальной обороны» уточняется, что США будут создавать прочные коалиции «с целью консолидации успеха», якобы достигнутого в Афганистане– еще одном государстве-наблюдателе ШОС. Увеличение там вооруженных сил США до 13 тыс. человек и в операции коалиции «Resolute Support» до 16 тыс. человек приведет к обострению военно-политической обстановки в этой стране.
Широко известна антисирийская позиция США в отношении Сирии как страны, подавшей заявку на участие в ШОС в качестве наблюдателя. Осложнились отношения между США и Турцией – как со страной, имеющей статус партнера по диалогу с ШОС.
Ко многим странам, имеющим различный статус в ШОС, могут быть применены «Глобальная оперативная модель» («Global OperatingModel») использования объединенных вооруженных сил США, которые должны быть способны вести боевые действия с задействованием обычных и ракетно-ядерных, космических и кибернетических средств, а также концепция «Динамичного применения вооруженных сил»(«Dynamic Force Employment Concept»), предусматривающая их срочную перегруппировку для решения внезапно поставленных задач приоритетного характера. Обе такие установки содержатся в «Стратегии национальной обороны» 2018 года.
В «Стратегии национальной обороны» перед американскими вооруженными силами открыто поставлена задача: «сдерживать агрессию в трех ключевых регионах: Индо-тихоокеанском регионе, в Европе и на Ближнем Востоке». Примечательно, что в тексте отсутствует термин «Азиатско-Тихоокеанский регион», а использовано более широкое географическое понятие как «Индо-Тихоокеанский регион», который дополнительно включает полуостров Индостан и прилегающие к нему зоны.
«Стратегия национальной обороны» предусматривает продолжение политики вооруженного вмешательства США во внутренние дела других государств независимо от места их расположения. В этой связи следует напомнить, что начиная со времени провозглашения и ими независимости в 1776 году и по настоящее время они 563 раза вмешивались во внутренние дела других стран. Ни одно государство мира не имеет столь негативной статистики.
Военно-политическую сердцевину новой ядерной стратегии США составляет возможность применения ядерного оружия в первом ударе практически против любого государства мира, в том числе против тех, которые используют против США силы общего назначения. С целью улучшения ядерных арсеналов Национальное управление по ядерной безопасности США получит в 2019 финансовом году 15,1 млрд. долларов, что на 17,5 % больше расходов этой структуры в текущем финансовом году.
В списке оснований для применения американских ядерных средств значатся нападение с использованием обычных вооружений против ядерных сил, объектов управления ими и СПРН США и их союзников. Появилась и формулировка, которая позволяет американскому президенту использовать ядерное оружие в случае «скоротечного изменения геополитической обстановки» и даже при возникновении технологических «неожиданностей».
В новой ядерной стратегии США сделан упор на применение ядерных боезарядов малой мощности, к средствам доставки которых добавятся еще два вида, а именно: их перспективная через два года установка на БРПЛ «Трайдент-2», а позднее и новая КРМБ. Первым видом доставки таких вооружений станет новая высокоточная корректируемая авиабомба В-61-12 с ядерным боезарядом в 50, 10, 1,5 и 0,3 килотонны, которая будет принята на вооружение в 2019 или в 2020 году.
Администрация Д. Трампа лишь отложила возможность использования ядерного оружия против КНДР, но не отказалась от этой идеи вообще.
В новой ядерной доктрине США России необоснованно приписывается приверженность несуществующим положениям ее действующей ядерной доктрины, в т. ч. некая концепция «эскалации» применения ядерного оружия или его использование в первом ударе с целью «деэскалации» вооруженных конфликтов, в которых задействуются обычные вооружения.
Таким образом, в США появились три новые стратегии, пронизанные духом агрессивности и продолжения твердого настроя на вооруженное вмешательство во внутренние дела других государств, проводящих самостоятельный курс на международной арене. Такие стратегии могут создавать угрозу безопасности как отдельным государствам, имеющим различный статус в ШОС, так и всей организации в целом. [1]
Практические предложения
Отмеченные особенности новых американских стратегий позволяют российской стороне использовать их агрессивно-наступательную сущность с целью дальнейшей консолидации ШОС. В этой связи представляется целесообразным усилить обмен мнениями по военно-политическим вопросам в рамках организации. С этой целью можно было бы:
1. Провести встречу министров иностранных дел и обороны государств, участвующих в ШОС, независимо от их функционального статуса, для обмена мнениями о последствиях применения новых американских стратегий, в особенности ядерной. Предложить принять на такой встрече краткую политическую декларацию с критической оценкой новых военно-стратегических установок, особо выделив опасные последствия применения Соединенными Штатами ядерного оружия в первом ударе и продолжения ими практики вмешательства во внутренние дела других государств.
2. Направить в государства-члены ШОС российские парламентские делегации и представителей академических кругов с целью разъяснения негативных особенностей и последствий практического применения новых военно-политических установок США для международного мира и безопасности.
3. Издать и широко распространить в странах ШОС и других зарубежных государствах брошюру на русском и английском языках с критической оценкой недавно принятых военных стратегий нынешней американской администрации.
Центр военно-политических исследований МГИМО мог бы принять в подготовке и проведении обозначенных мероприятий непосредственное участие.
________________________________________
[1] Названные стратегии США проанализированы автором в газете «Красная звезда»: 19 декабря 2017 года, 21 января и 5 февраля 2018 года.
24.02.2018