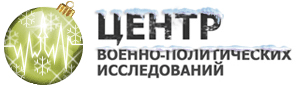Вопрос об операционной линии есть главный центральный вопрос стратегии. Он все объединяет, всюду проникает, все и вся определяет. Это корневой стержень, который растит и питает все остальное[1]
Г. Леер, русский военный теоретик
Запад очень быстро утрачивает терпимость к многообразию и это вызывает серьёзную озабоченность[2]
С. Лавров, министр иностранных дел России
Существует до сих пор заблуждение, что системы безопасности и коалиции – лучшие инструменты защиты безопасности государств. Расцвет этих заблуждений был при СССР[3] и по инерции продолжился в период российской истории, когда «совместная антитеррористическая борьба» даже на время стала главным внешнеполитическим приоритетом России в области безопасности. Такая переоценка – отнюдь не безобидная ошибка. Она привела к переоценке отношений с благоприятности внешних условия развития России, отношений с США и возможностей в области безопасности, которые по инерции затянулись вплоть до начала 2014 года. Естественно, что это повлияло на точность оценки состояния МО и ВПО и стратегического прогноза последствий антироссийской политики США и их союзников вплоть до 2022 года[4].
Это заблуждение опасно вообще, но особенно в современный период потому, что создает опасные иллюзии возможностей достижения коллективной безопасности у некоторых (далеко не у всех) государств. История учит, что все коалиции и системы безопасности за последние 300 лет дали России намного меньше, чем дала бы самостоятельная внешняя политика и стратегия национальной автаркии, наиболее ярким примером которой было десятилетие правления Александра III.
Примеров более, чем достаточно, но по-прежнему иллюзия формирования систем безопасности сохраняется. Такой иллюзией может стать и надежда на создание системы Евразийской безопасности, как и любой иной системы безопасности – европейской, атлантическиой, глобальной и пр. Модное увлечение в политике и дипломатии нередко подогревается «удобными» учеными и публицистами, которые с удовольствием осваивают выгодные в пропагандистском отношении темы и ракурсы.
Между тем, реальная мировая политика очень далека практически от подобных схем. «Потеря терпимости к многообразию», о которой говорил еще в 2020 году С.В. Лавров, – на самом деле реально существующая и нарастающая тенденция игнорирования интересов безопасности других субъектов. Другой стороной этой тенденции стало обесценение систем международного сотрудничества, включая значение систем обеспечения безопасности. Фактически происходит ликвидация международных институтов, в том числе, международно-правовых, которые США и их союзники вытесняют с помощью активной политики насаждения известных только им «норм и правил». Именно эти нормы и правила фактически превращаются де-факто в некие «системы безопасности», основанные только на интересах США. Процесс этот усиливается и, нет сомнений, что при Д. Трампе он вообще будет откровенно легализован. «Потсдамкая система безопасности», в основе которой лежат остатки договоренностей держав-победительниц, окончательно исчезнет.
Не случайно, а закономерно поэтому, что исключение для потенциального создания систем международной безопасности (как кажется только на первый взгляд), составила созданная из более 50-и государств Соединенными Штатами широкая антироссийская коалиция (Важно, кстати, подчеркнуть, что США целенправленно и последовательно создавали ее параллельно с существованием других систем с 80-х годов прошлого века). Но, во-первых, эта система – откровенно проамериканская и подчиненная интересам безопасности США, а не коллективный институт обеспечения безопасности. Более того, для многих участников эта «система безопасности» стала уже просто опасной, в особенности, если они оказываются втянутыми в военные действия за интересы США.
Во-вторых, в самой системе существуют разные уровни и трещины, которые не позволяют говорить об ее устойчивости. В конечном счете, эти явления и процессы, развивающиеся в проамериканской «системе – коалиции» свидетельство нарастающей антиглобалистской автаркии национальных государств[5]. Пока что эти процессы только обозначены, но иногда они уже начинают играть практическую роль.
Международные системы безопасности недолговечны в силу того, что их существование гарантируется только совпадением национальных интересов государств, которые могут (как показывает неоднократно история) неожиданно пересматриваться и переоцениваться правящими элитами. Или (как в случае с коалицией США) простым подчинением одних государств - другим. Даже когда это противоречит их национальным интересам. Так, последняя система европейской безопасности, существовавшая с 1975 года (СБСЕ в Хельсинки) до 1991 года (войны в Югославии[6]) продемонстрировала подобную недолговечность подобных систем. Как только это (ОБСЕ) перестало быть нужным США.
Но не стоит думать, что практическая бесполезность таких систем не несет вреда. Наоборот, есть все основания считать, что создание подобных систем наносит прямой ущерб интересам безопасности. Так, если говорить о том, что произошло «после 1 августа 1975 года в Хельсинки», то надо признать, что третий блок договоренностей («третья корзина» – права человека) стал реальной политической целью США и их союзников, реализация которого в последующие десятилетия легализовала оппозицию в СССР и странах ОВД. Другими словами, в обмен на мнимую систему безопасности в Европе, которой гордились советские руководители и дипломаты, мы получили мощный инструмент развала СССР и ОВД, который в итоге начал срабатывать сразу же. Напомню, что Заключительный акт в Хельсинки специальным решением был опубликован в СССР тиражом 1 млн. экземпляров, а «хельсинские группы» правозащитников фактически получили легальный статус и неприкосновенность.
В определенном смысле любая система безопасности – временная, существующая только до тех пор, пока она выгодна государству. Причем, как и любая коалиция, степень «выгоды» у государств может быть очень разная. Россия, например, очень невыгодно строила свои отношения с Австро-Венгрией целых два столетия. При этом весьма вероятно, что существование такой системы и ее прочность будут тем надежнее, чем больше они будут опираться на национальные системы безопасности, а те, в свою очередь, на способность государств к автаркии в своем развитии. Иными словами, не только для государств, но и создаваемых ими систем безопасности, наиболее надежный способ их сохранение – поддержание высокой степени автаркии.
И, наоборот, любые интеграционные процессы следует рассматривать с осторожностью, чего пока что не происходит, хотя весь мировой опыт показывает, что уступки, помощь и нарастающая взаимозависимость создают потенциальные угрозы существованию систем международной безопасности и их институтам. Последний пример – членство Армении в ОДКБ и ЕврАзЭС[7], – которые не смогли сохранить эту страну в системе безопасности соседних государств. Более того, фактически Армения вышла не просто из ОДКБ, но присоединилась к противникам России в январе 2025 года, сменив ориентацию в несколько месяцев.
«Переходный период» трансформации международной обстановки, получивший с легкой руки Е.М. Примакова еще в конце 90-х гг. характеристику «турбулентный», означает всего лишь признание радикальных изменений в состоянии международной и военно-политической обстановки без сколько-нибудь серьезного анализа их онтологической сущности, и, как неизбежное следствие (о чем иногда забывают), – в национальных и военных стратегиях государств. Этот подход был очень характерен для осторожного Е.М. Примакова, который сознательно не делал шагов по углублению анализа и причин такой «турбулентности», чтобы избежать критики.
Например, такой «турбудентности» не наблюдается в целом ряде регионов планеты. Как заметил бывший генеральный секретарь МИД Сингапура, «На большой части Азии, от Японии и Южной Кореи на севере, через Юго-Восточную Азию – стержень, соединяющий Индийский и Тихий океаны – до Индийского субконтинента на юге, вторая администрация Трампа не вызывает тех же сильных эмоций, как у многих на Западе. Для этих стран гораздо меньше беспокойства по поводу автократических тенденций Трампа и его презрения к либеральным интернационалистским идеалам. Регион давно строил отношения с Вашингтоном на основе общих интересов, а не общих ценностей. Такой подход прекрасно вписывается в транзакционную внешнюю политику Трампа, поскольку он подразумевает балансирование взаимной выгоды, а не поддержание либерального международного порядка. Действительно, большая часть Азии относится к либеральному порядку неоднозначно. Когда азиатские страны говорят о «порядке, основанном на правилах», эта фраза, как правило, несет в себе существенно иное значение, чем на Западе.
Для Азии возвращение Трампа к власти – это не просто радикальное отклонение от существующей внешней политики США, оно усиливает и ускоряет тенденцию, которая наблюдается со времен Вьетнама. Соединенные Штаты не отступают и не принимают изоляцию. Вместо этого они расширяют географический охват подхода, который президент США Ричард Никсон впервые представил в Восточной Азии во время Холодной войны, в одностороннем порядке переопределяя условия своих глобальных обязательств и становясь более осмотрительными в отношении того, когда и как они вмешиваются на международном уровне. Имея дело с такими Соединенными Штатами почти полвека, Азия не слишком взволнована по поводу второй администрации Трампа[8]».
Между тем, отсутствие реальной публичной дискуссии и анализа состояния МО и ВПО в мире неизбежно сказывалось на качестве внешней политики России, которая длительное время оставалась инерционной. Иными словами, в новых условиях миропорядка нужна новая национальная стратегия. Более того, уже на стадии формирования нового миропорядка нужна новая национальная стратегия. Но если нет признания нового качества МО и ВПО, детального анализа процессов формирования миропорядка, то и нет сколько-нибудь значимых шагов в области стратегического планирования.
Ситуация в этой области нехотя и медленно менялась к 2021 году. В настоящее время в России существует Стратегия национальной безопасности (СНБ), утвержденная президентом страны 2 июля 2021 года. В принципе эта стратегия достаточно адекватна внешним и внутренним реалиям, хотя и принята с очевидным опозданием и не свободна от прежних недостатков.
Прежде всего, если говорить о борьбе двух базовых тенденций – глобализации и автаркии. Основная тенденция мирового развития, которая стала набирать силу особенно активно в начале нового века, – мало изученная до настоящего времени нарастающая автаркия[9] во внешней и внутренней политике новых центров силы и национальных государств, которая развивается в противовес контролируемой США глобализации. Соотношение между этими двумя основными тенденциями, противоборство между ними, определяет политику государств в мире. Иначе говоря, «доля» глобализации и «доля» автаркии в политике государств выступают тем главным критерием их субъектности в мире, суверенитета и независимости. В России (где доля сторонников глобализации в правящей элите была подавляющей) к этому процессу подходили и подходят крайне осторожно – отказаться от состояния «интегрированности с Западом», как оказалось для правящей элиты почти невозможным.
Эта же «выделенная правящей элитой страны доля» автаркии, однако, определяет и уровень национального выживания и степень реального суверенитета стран. 2022-2025 годы мы наблюдаем, как происходит борьба сторонников и противников автаркии и глобализации по всем стратегическим направлениям развития – от образования и культуры до промышленности. Постепенно (но крайне медленно и не последовательно) приходит признание того, что если эта «доля автаркии» в экономике, науке, образовании, политике достаточно высока, то можно говорить о возможности сохранения нации и государства. Если нет, то их ждет неизбежное растворение в глобализации под контролем США[10]. Так, реформы образования в России, затянувшаяся на годы,- пример такого бездарного отношения к национальным интересам и ценностям.
Это признание в той или иной степени стало общим местом в рассуждениях многих политиков и политологов уже в начале столетия[11]. Но проблема более сложная – выбор национальной стратегии, соответствующей приоритетам автаркии над приоритетами в глобализации (мы, кстати, это хорошо видим на примере политики Центробанка, который вынужденно выбирает глобализацию вместо развития). Речь идет не больше и не меньше как (по словам Г.А. Леера) об «основной идее» стратегии государства, предполагающей изменения в цели, направлении, плане ее развития, а также «объеме средств и энергии»,- по словам Г.А. Леера,- необходимых для ее осуществления[12].
Автор: А.И. Подберезкин
[1] Леер Г.А. Безыдейность. В кн.: Стратегия в трудах военных классиков. – М.: Финансовый контроль, 2003, с.562.
[2] Пресс-конференция по итогам работы МИД в 2020 году С.В. Лаврова, министр иностранных дел России 18 января 2021 года / Russian.rt.com/world/18/01/2021
[3] «Высшей точкой» стала политика «разрядки Л.И. Брежнего и «нового мышления» М.С. Горбачева, которые привели в итоге к развалу СССР.
[4] Подберёзкин А.И., Тупик Г.В. Изменения в международной и военно-политической обстановке в мире после начала специальной военной операции на Украине: монография. – М.: МГИМО-Университет, 2024. – 603 с.
[5] Подберёзкин А.И. Современная стратегия США и НАТО на Украине // Обозреватель, 2024, май-июнь, №3 (404), сс. 28-46; Подберёзкин А.И. Западная коалиция и Россия: проблема соотношения ресурсов в 2024-2025 годах / Обозреватель, 2024, ноябрь-декабрь, №6 (407), сс. 18-34.
[6]Югосла́вские во́йны – серия вооружённых конфликтов в 1991–2001 годах на территории бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославии (СФРЮ) в ходе распада страны.
[7] Еврази́йское экономи́ческое соо́бщество (ЕврАзЭС) – существовавшая с 2001 по 2010 годы международная экономическая организация, состоящая из ряда бывших республик СССР. Была создана для эффективного продвижения её участниками процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства (сначала Россией и Беларусью, затем Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, впоследствии – ЕврАзЭС), а также реализации других целей и задач, связанных с углублением интеграции в экономической и гуманитарной областях. Упразднена в связи с созданием Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С 2016 года аббревиатура ЕврАзЭС в публичном пространстве используется наряду с аббревиатурой ЕАЭС.
[8] Каусикан Б. Кто боится Америки? / Форин Аффеарс, 7 января 2025 г. / https://www.foreignaffairs.com/united-states/whos-afraid-america-first-bilahari-kausikan-trump?utm_medium=newsletters&utm_source=twofa&utm_campaign=Wh
[9] Автаркия – зд.: в данном случае автаркией обозначают политику и экономику, ориентированную внутрь страны, на саму себя, на развитие без доминирующих связей с другими странами. В этом плане автаркия – закрытая экономика и политика, предполагающая абсолютный суверенитет. В настоящей работе автаркия – вариант широкой экономической и политической, а также военной автономии страны, защищенной от самых негативных последствий внешней зависимости. В отличие от классической автаркии, российская автаркия не предполагает полной изоляции, но имеется ввиду резкое сокращение влияния «недружественных стран» на экономику и общественно-политическую жизнь страны и укрепление национального суверенитета.
[10] США достаточно откровенно заявляют о своих намерениях. Так, в ежегодном обзоре разведсообщества США любые действия России в любой области рассматриваются как угроза глобальному порядку и влиянию США. См.: Annual Threat Assessment of the US Intelligent Community. Office of the Director of National Intelligent. Wash., 2021, April 9, р. 21.
[11] Подберёзкин А.И. Стратегия национальной безопасности и стратегическое планирование в условиях резкого обострения военно-политической обстановки, сс. 86–101. В кн.: Трансформация войны и перспективные направления развития содержания военных конфликтов. Сборник материалов круглого стола. ВАГШ, кафедра военной стратегии, 2023. – 239 с.
[12] Леер Г.А. Безыдейность. В кн.: Стратегия в трудах военных классиков. – М.: Финансовый контроль, 2003, с. 562.