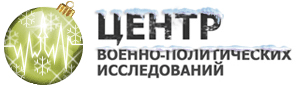Говоря о критике ДПРОК и возможности использования его положений в проекте эвентуального инструмента по ПГВК уместно отметить следующее.
Это прежде всего, заявления в связи с озабоченностью созданием и использованием противоспутниковых систем (ПСС) как космического, так и наземного базирования и тем фактом, что они не регулируются и не запрещаются проектом ДПРОК.[1]
При рассмотрении данной позиции важно осознавать следующее.
Запрещая размещение оружия в космосе, следует учитывать возможность вступления в международную договоренность далеко не всех государств, а также право выхода из нее любого участника. Такие государства могут обладать потенциалом создания оружия космического базирования, а государства-участники договоренности, как представляется, не могут не иметь в такой ситуации своего рода «страхового полиса». Им-то и являются противоспутниковые средства не космического базирования.
Именно поэтому российско-китайский проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе (ДПРОК), запрещая размещение в космосе оружия любого вида и применение ПСС против космических объектов государств-участников, не предусматривает запрет на создание и испытания по собственным мишеням ПСС наземного, морского и воздушного базирования и их применение против возможных агрессивных действий государств, не являющихся участниками договора. И это – не упущение проекта, как говорят некоторые эксперты, а вынужденно предусматриваемая ситуация.
Однако, следует признать, что в такой позиции лежит исходно опасный посыл – держать дверь открытой для выхода оружия в космос.
Вторым ключевым элементом критики выступало и продолжает выступать отсутствие формального механизма верификации Договора и, как следствие, проблемный характер выработки подобного механизма применительно к эвентуальному инструменту по ПГВК.
Да, это так. Говоря о критике проекта ДПРОК, следует упомянуть и отсутствие в нём прописанного механизма верификации. При этом важно понимать, что разработчики проекта исходили из того, что соблюдение запретительного режима будет стимулироваться, прежде всего, тем пониманием, что в случае обнаружения его нарушения негативные международные последствия для государства-нарушителя могут оказаться несоизмеримыми с кажущейся выгодой от нарушения запретительного режима, что может явиться для государства объективным сдерживающим фактором.
Полное соответствие космической деятельности нормам международного космического права в сочетании с дополняющими мерами по обеспечению транспарентности и доверия будут содействовать укреплению уверенности в отношении мирных намерений государств. Но главное в том, что в условиях реального отсутствия оружия в космосе легче не допустить его появления там, чем потом заниматься «девепонизацией» космического пространства.
Безусловно, конкретные меры контроля за соблюдением запретительного режима могут стать предметом дополнительного изучения.
Тем более, что вопрос о верификации стал в последнее время одним из самых эксплуатируемых поводов для аргументации невозможности в принципе введения запретительного режима в отношении размещения оружия в космосе.
Как представляется, в перспективе можно было бы и не возражать против придания эвентуальному договору и запретительных элементов в отношении ПСС. Однако здесь мы видим определенные трудности с введением запрета на наземные разработку, производство и испытания оружия, предназначенного для размещения в космосе.
На наш взгляд, введение таких запретов может окончательно загнать проблему выработки механизма верификации в тупик, поскольку верифицировать обязательства не разрабатывать, не производить и не испытывать такого рода системы практически невозможно, хотя бы в силу того, что, многие технологии могут разрабатываться, производиться в рамках гражданских программ.
Кроме того, следует учитывать и тот факт, что в последнее время в странах-разработчиках современных вооружений широко используется система доработки и отладки новых систем вооружений уже в ходе их боевого применения. Представляется, что лучше не доводить ситуацию, когда ««сырое» оружие в космосе будет дорабатываться уже по ходу вооруженного конфликта.
Да, следует признать, что верификация является ключевым элементом многих договоренностей.
При этом следует, естественно одновременно признать, что верификация могла бы явиться важным аспектом возможной будущей договоренности по ПГВК. Такой механизм мог бы содействовать добросовестному соблюдению документа и выполнению его положений. С другой стороны, он способствовал бы укреплению доверия к договоренности каждого и всех ее государств-участников. В то же время, сам верификационный механизм, его конкретное «наполнение», напрямую зависят от охвата самой договоренности и содержащихся в ней обязательств.
Важно при этом понимать степень технической осуществимости проверки как проекта ДПРОК, так и эвентуального договора по ПГВК, прежде всего, содержащегося в нём запрета на размещение оружия в космосе при том понимании, что это будет сопряжено со значительными издержками (в т.ч. финансовыми).
Одновременно следует принимать во внимание и то обстоятельство, что эффективный контроль за наземными исследованиями, разработкой, производством и хранением вооружений космического базирования представляется весьма проблематичным, прежде всего, по соображениям военной и коммерческой тайны.
При рассмотрении вопроса о целесообразности разработки эффективного контрольного механизма ДПРОК российская сторона учитывала и другие обстоятельства:
- в политическом плане проверка связана с проблемой защиты перспективных технологий и закрытой информацией военного характера, а технологию дистанционного наблюдения с помощью спутников на период разработки ДПРОК освоили всего лишь несколько государств.
Трудно было бы представить, что они будут готовы поделиться своими «национальными средствами контроля» с другими государствами, а те – смогут воспользоваться такими средствами контроля;
- в техническом отношении не существовало надлежащих технологических условий для установления эффективного режима верификации;
- наконец, значительные финансовые издержки, сопряженные с реализацией таких проектов.
В то же время, важно осознавать, что положения о верификации включены далеко не во все договоры по контролю над вооружениями. Более того, многие из них весьма эффективно выполняются без контрольного механизма. Это относится и к Договору о космосе 1967 г., Конвенции о "негуманном" оружии, Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, Соглашении о Луне 1979 года, Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду и т.д.
Именно поэтому инициаторы ДПРОК приняли решение отложить рассмотрение этого вопроса и предусмотреть возможность подготовки такого документа на более позднем этапе (Статья 5 ДПРОК). [2]
Как представляется, такой подход вполне можно было бы использовать в работе при подготовке возможной будущей договоренности по ПГВК.
Необходимо также иметь в виду, что несмотря на отсутствие отдельного полноценного верификационного механизма, проект ДПРОК тем не менее содержит положения, имеющие отношение к верификации.
Так, Статьей VII ДПРОК предусмотрен механизм консультаций, который может быть задействован в случае подозрений на нарушения договора.
Содействовать контролю за исполнением обязательств вполне могут и отдельные согласованные МТДК.
Применение таких мер в целях верификации следует рассматривать с учетом тех наработок, которые были достигнуты в ГПЭ по МТДК в 1993 г., а также в ГПЭ по МТДК 2013 г.
После апробации они вполне могли бы стать неотъемлемыми элементами верификационного механизма договоренности. Так, на наш взгляд, в качестве таких мер можно использовать некоторые из МТДК, рекомендованных в итоговом докладе профильной Группы правительственных экспертов ООН:
- обмен информацией о принципах и целях государственной политики в космической сфере;
- обмен информацией об орбитальных параметрах космических объектов и возможных совпадениях орбит;
- уведомления о планируемых маневрах;
- уведомления о космических запусках аппаратов;
- визиты специалистов на стартовые площадки и т.д.
Подробные варианты МТДК, в том числе для целей верификации, даны в предлагаемом нами авторском Приложении.
При этом уместно ещё раз подчеркнуть, что «мягкое право», меры доверия играют промежуточную, вспомогательную, дополняющую роль, вполне могут применяться как верификационное средство, но они не могут полноценно заменить юридически обязывающий документ.
Большим потенциалом на направлении верификации, на наш взгляд, обладает предложенная Россией еще в 2004 г. многосторонняя инициатива/политическое обязательство о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК). [3]
Следует также исходить из того, что до выработки верификационного механизма значимой гарантией выполнения обязательств может служить принцип, на протяжении полувека успешно обеспечивающий действие Договора о космосе 1967 г., а именно: кажущаяся выгода от нарушения запретительного режима договора или выхода из него, а также негативные политические последствия такого шага будут несоизмеримы в сравнении с дивидендами от последовательного выполнения такого режима.
Наконец, для целей договоренности по ПГВК вполне можно было бы использовать опыт других международных документов. В частности, весьма любопытное положение о верификации содержит Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия или других видов ОМУ 1970 г. (Договор по морскому дну).[4]
Его Статья 3 закрепляет за государствами-участниками соглашения право вести наблюдение за исполнением соответствующих обязательств, при том понимании, что такое наблюдение не будет мешать такой деятельности. Предусмотрен механизм консультаций между государством, имеющим сомнения относительно исполнения Договора другим участником, и государством, несущим ответственность за деятельность, вызывающую эти сомнения. Если эти сомнения не устранены, то государства может уведомить о своей озабоченности другие страны.
Кроме того, любопытное положение о проверке содержал и договор об ограничении систем противоракетной обороны 1972 г., прекративший свое существование после выхода из США. В частности, его статья 12 подтверждала право государств «использовать имеющиеся в их распоряжении национальные технические средств контроля таким образом, чтобы это соответствовало общепризнанным принципам международного права». Участники договора обязывались «не чинить помех национальным техническим средствам контроля другой стороны», а также «не применять преднамеренны меры маскировки, затрудняющие осуществление такого контроля». [5]
В любом случае, отсутствие детально прописанного механизма не должно быть непреодолимым препятствием на пути заключения договора по ПГВК.
В случае с ДПРОК российские представители неоднократно подчёркивали, что вернуться к детальному рассмотрению этого вопроса можно было бы на этапе после принятия инструмента, в обстановке запрета на вывод оружия в космос. В качестве одной из форм предлагался отдельный протокол на эту тему.
Еще один концептуальный фактор, заслуживающий рассмотрения. Падение в 2014 году под Челябинском метеороида на российскую территорию и пролет другого крупногабаритного опасного небесного тела (ОНТ) на чрезвычайно близком удалении от поверхности Земли заострили внимание международного сообщества на проблеме астероидно-кометной опасности. Вновь были подняты вопросы силового воздействия на ОНТ, угрожающие падением на Землю.
Помимо специфических вопросов борьбы с ними, следует обратить внимание и на то, чтобы под прикрытием испытаний средств силового воздействия на ОНТ не производилась отработка оружейных систем космического базирования.
В связи с этим следует иметь в виду целесообразность проработки комплекса международно-правовых вопросов, касающихся аргументированного выведения предполагаемых средств силового воздействия на ОНТ из понятий и из-под ограничения ряда международных договоренностей: Договора по космосу 1967 г. (запрет на размещение в космосе объектов с ядерным оружием), Договора о запрете испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 г. (запрет на любые испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы в атмосфере и за ее пределами, включая космическое пространство), Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 1976 г. (запрет на использование средств воздействия, в т.ч. на атмосферу и космическое пространство), проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве 2008 г. (обновлённый ДПРОК от 2014г.) – запрет на размещение в космосе оружия любого вида).
Как представляется, данная тема могла бы быть применима и к эвентуальному документу по ПГВК.
Вопросы эти весьма чувствительные и требуют тщательного и взвешенного рассмотрения на многосторонней основе.
Автор: А.Ю. Малов
[1] Проект- Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов // Организация Объединённых Наций //Режим доступа: URL: http://www.un.org/ru/document/ods.asp?m=CD/1985
[2] Там же.
[3] Итоговый доклад ГПЭ по МТДК. Организация Объединённых Наций //Режим доступа: URL: http://www.un.org/ru/document/ods.asp?m=A/68/189. Резолюция ГА ООН по НПОК. Организация Объединённых Наций //Режим доступа URL:http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/73/31
[4] Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения // Организация Объединённых Наций //Режим доступа URL:http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/seabed/pdf/
[5] Договор между США и СССР об ограничении систем противоракетной обороны Организация Объединённых Наций //Режим доступа URL:http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/