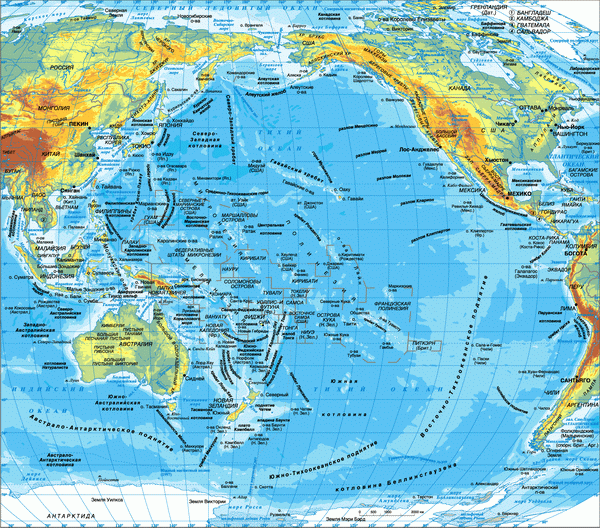
Известный эксперт по проблемам международных отношений и безопасности в АТР С.Г. Лузянин, выделяет три модели связанные с безопасностью в этом регионе:
1. Форум по безопасности АСЕАН (АРФ). За последние годы Форум инициировал более десятка международных конференций и совещаний, на которых обсуждались вопросы региональной безопасности. Было выдвинуто несколько общих деклараций за углубление открытости, стабильности и доверия в сфере безопасности. Однако большой эффективности и влияния проект не играет. По мнению Лузянина, это, скорее, совещательный орган экспертов, который дает только рекомендации, но не может принимать конкретные решения и нести ответственность за эти решения.
2. Вторая модель основана на российско-китайских политических инициативах по сохранению безопасности и стабильности в регионе. Она частично реализуется в рамках взаимодействия двух держав в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), совместных заявлениях, деятельности Антитеррористического центра и войсковых учениях Организации. За рамками ШОС действует ст. 9 Российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 г.
3. Сложившаяся в годы холодной войны система двусторонних военно-политических союзов США с Японией, Южной Кореей, Австралией и др. Она отвечает исключительно интересам США и их союзников. В последнее время просматривается желание США перейти от двусторонних к сетевым форматам регионального военного сотрудничества, то есть к созданию в Восточной Азии системы планирования и действий вооруженных сил стран региона.
Первая и вторая модели являются достаточно транспарентными, открытыми и не ориентированы на развитие военно-политических союзов. Как правило, это либо диалоговые формы и совещания по безопасности, либо комплексные организации (типа ШОС), не являющиеся военными альянсами или блоками. Третья (американская) модель, наоборот, предполагает жесткое военно-политическое партнерство, направленное на защиту интересов США и их союзников в регионе Восточной Азии. Существует тенденция расширения «зоны ответственности» американских договоров, в том числе на спорные китайско-японские острова Дяоюйдао (Сенкаку) или российско-японские острова Южных Курил.
В качестве обеспечения российских интересов в АТР называются «формирование и продвижение в Азиатско-Тихоокеанском регионе партнерской сети региональных объединений», укрепление роли ШОС, использование механизма Восточноазиатских саммитов (ВАС), а также активное участие в таких форматах, как форуме «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество», диалоге Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Региональном форуме АСЕАН по безопасности, форуме «Азия – Европа», Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Совещании министров обороны стран АСЕАН с диалоговыми партнерами, форуме «Диалог по сотрудничеству в Азии», и, кроме того, сотрудничество на двусторонней основе со странами региона, такими как КНР, Индия, Республика Корея, КНДР, Япония.
По оценкам российских экспертов, механизм ВАС позволяет повысить скоординированность многосторонних усилий стран региона в области обеспечения безопасности, однако общим интересам отвечало бы развитие с участием ВАС таких организаций и форумов как АСЕАН, ШОС, АТЭС, АРФ, СВМДА, «СМОА плюс», создание в АТР системы взаимодополняющих многосторонних партнерств и включение в повестку дня ВАС вопросов региональной безопасности и стратегических проблем взаимодействия в АТР. В качестве важного направления называется также продолжение диалогового партнерства с АСЕАН, объединяющим наибольшее число государств Азиатско-Тихоокеанского региона для консультаций в области безопасности.
Сотрудничество в области обеспечения безопасности в АТР осуществляется сейчас на трех уровнях: на уровне региональных организаций типа форума АСЕАН, в рамках субрегиональных организаций типа военно-политический блок АНЗЮС и на двусторонней основе в соответствии с договорами, подобными тем, что заключены, например, между США и Японией или США и Республикой Корея. Немаловажную роль играют также договоренности, существующие между Россией и Китаем.
Однако серьезной проблемой для выстраивания архитектуры безопасности в АТР, сопоставимой по охвату и эффективности с ОБСЕ, является низкий уровень доверия между странами региона. Кроме того, в отношениях между наиболее влиятельными экономическими и политическими игроками АТР, такими как США, КНР и Япония отчетливо прослеживаются тенденции геополитического соперничества при одновременном поддержании экономической взаимосвязи: каждая держава пытается претендовать на лидерство в различных схемах многосторонней региональной интеграции .
Помимо этих факторов формированию системы коллективной безопасности в АТР, аналогичной ОБСЕ, препятствуют более значительные, чем, к примеру, в Евросоюзе, экономические, политические и социальные различия между странами АТР, наличие территориальных и приграничных споров. Эти же причины сыграли не последнюю роль в провале инициатив премьер-министров Новой Зеландии К. Радда и Японии Ю. Хатоямы о создании в АТР структур сотрудничества, аналогичных Евросоюзу, выдвигавшихся в 2009 году. Россия оценила обе эти инициативы как интересные, но нереалистичные и нереализуемые и предложила подойти к воплощению в АТР европейских моделей сотрудничества не путем создания новых структур, а путем развития уже существующих, например, форума ВАС. В плане регионального сотрудничества в области безопасности Россия сделала ставку на активизацию своего участия в Региональном форуме АСЕАН по безопасности (АРФ), Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Диалоге по сотрудничеству в Азии, в формате «тройки» Россия – Индия – Китай.
Обеспокоенность по поводу усиления влияния в АТР Китая, обострение территориальных споров и неадекватное поведение КНДР вынудили ряд стран к переосмыслению и корректировке существующих механизмов обеспечения безопасности. В частности, США выступили инициаторами или, как минимум, поддержали идею заключения двустороннего оборонного договора между Японией и Республикой Корея с прицелом на формирование трехстороннего оборонного союза США – Япония – РК. Правда, пока перспективы создания такого союза остаются неясными из-за срыва японо-южнокорейских переговоров о заключении соглашения о сотрудничестве в области обмена разведывательной информацией из-за известных проблем в двусторонних отношениях. Япония предприняла шаги по укреплению отношений с рядом стран ЮВА, имеющих, как и она сама, территориальные проблемы с КНР. США активизировали усилия по созданию широкой коалиции в АТР (с включением в нее Индии) для сдерживания Китая. Очевидно, что любая из этих мер в случае их реализации будет способствовать, скорее, не укреплению безопасности в регионе, а, наоборот, росту недоверия и напряженности, созданию новых разделительных барьеров.
Вероятно, реакцией России на подобные процессы не могут быть попытки создании каких-то двусторонних оборонных союзов с Китаем, как по причине неготовности к этому Китая, во всяком случае, декларируемой китайским руководством, так и по причине, что это не будет способствовать снижению угроз в АТР, а лишь усилит атмосферу недоверия и напряженность.
Свои инициативы по развитию сотрудничества в области региональной безопасности Россия изложила на 21-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ), проходившей во Владивостоке с 27 по 31 января 2013 года. В проекте резолюции, предложенном российской стороной, была подтверждена ее поддержка идеи формирования в регионе открытой, транспарентной, равноправной, инклюзивной и неделимой системы безопасности, основанной на коллективных началах, нормах и принципах международного права и учете интересов всех без исключения стран региона. Документ призывает все государства АТР при осуществлении двустороннего и многостороннего сотрудничества в области безопасности уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность, не вмешиваться во внутренние дела друг друга, как этого требует Устав ООН; укреплять сотрудничество в области противодействия новым угрозам безопасности, развивая двустороннее и многостороннее сотрудничество в военной области, не направленное против третьих стран, а также приграничные связи и контакты между людьми. В документе подчеркивается, что региональную безопасность обеспечивают также достижения экономического и социального развития, решение проблем окружающей среды и эффективное реагирование на кризисные ситуации. В целом эти пожелания были учтены в итоговом тексте резолюции форума во Владивостоке. Проблема состоит в том, что эта резолюция не является обязательной для исполнения сторонами, ее принявшими.
Как было отмечено выше, определенный вклад в борьбу с современными вызовами стабильности и безопасности в регионе вносит российско-китайское сотрудничество. В частности, в Совместном заявлении РФ и КНР о взаимовыгодном сотрудничестве и углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, принятом 22 марта 2013 года в ходе визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина, была продекларирована готовность сторон «решительно поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим их ключевые интересы, в том числе обеспечение суверенитета, территориальной целостности и безопасности». В этом документе содержится также призыв к ведущим державам пересмотреть свое отношение к сложившейся системе взаимоотношений: «Учитывая большую ответственность крупных стран в деле обеспечения международного мира и стабильности, мы призываем их подняться над мышлением категориями игр с нулевой суммой и блоковости, обращаемся с инициативой ко всем мировым державам следовать в международных отношениях принципам, подобающим глобальному миру в XXI веке: в политике – взаимного уважения и равенства; в экономике – взаимной выгоды и сотрудничества во имя совместного выигрыша; в безопасности – взаимного доверия и общей ответственности…».
Соперничество в АТР между Китаем и США не может не оказывать влияние на ситуацию в сфере противостояния современным вызовам и угрозам, поскольку само по себе становится все большей угрозой стабильности в регионе и в мире в целом. Это прекрасно понимают в Китае и ищут пути уменьшения напряженности в отношениях с США и перевода их в русло конструктивного сотрудничества в сфере безопасности и противостояния вызовам и угрозам. В частности, бывший заместитель начальника Генерального Штаба Народно-освободительной армии Китая (НОАК), профессор Университета Синьхуа и Пекинского Университета Сюн Гуанкай предложит объединить усилия Китая, России и США для укрепления глобальной стратегической стабильности. По его мнению, эти три страны способны создать эффективный механизм взаимного доверия в военной области, особенно в вопросах ядерного разоружения, создания системы ПРО, предотвращения милитаризации космоса и обеспечения кибернетической безопасности. Для этого им следует с уважением относиться к предметам озабоченности друг друга. Кроме того, они же могут сыграть важную роль в укреплении региональной безопасности, поскольку пользуются большим влиянием в таких взрывоопасных регионах, как Северо-Восточная Азия, Южная Азия, Центральная Азия, Ближний Восток и т. д.
Российские эксперты справедливо отмечают, что российским интересам не отвечает ни конфронтация Пекина и Вашингтона, ни превращение Китая в единственного доминантного игрока при подчинении ему остальных участников региональных процессов. К этому можно добавить, что российским интересам не отвечает также и образование двустороннего альянса США – КНР. И хотя этот вариант оценивается как наименее вероятный из трех обозначенных, полностью исключить его нельзя. Непредсказуемость перспектив развития ситуации в АТР затрудняет и выработку стратегии участия России в механизмах и структурах регионального сотрудничества, как уже существующих, так и формируемых или обсуждаемых в качестве идей и концепций. Очевидно, что все они становятся полем соперничества за влияние между, прежде всего, США и КНР. Как отмечает С.Г. Лузянин, В Северо-Восточной Азии «сохраняются старые жесткие конструкции, ориентированные на интересы США и их союзников. Новые проекты, появляющиеся при поддержке Вашингтона, так или иначе напоминают ремейк договоров биполярной эпохи и вписываются в доминирующую американскую версию безопасности. Нет здесь и конкурирующих проектов безопасности – в отличие, например, от Центральной Азии. Зато нарастают традиционные и нетрадиционные угрозы».
В этих условиях России стоит, вероятно, не прекращая участия в уже сложившихся в АТР многосторонних механизмах сотрудничества, выступить с инициативой нового подхода к взаимодействию в области противостояния старым и новым вызовам и угрозам. Речь идет о создании международных конференций под эгидой ООН, уполномоченных принимать обязывающие резолюции по тем или иным проблемам региона. При этом к определению формата этих конференций следует подходить гибко.
Разумеется, инициатива проведения международных конференций по проблемам, угрозам и вызовам в АТР как дополнения или, тем более, альтернативы уже существующим форматам, может, на первых порах, вызвать сопротивление со стороны тех стран, которые рассматривают существующие инструменты, в первую очередь, как средство для обеспечения собственных интересов. Однако, Россия может рассчитывать на возможность продвижения этой инициативы на целый ряд стран, которые сталкиваются со все более серьезными проблемами в отношениях с партнерами по существующим региональным объединениям.
России, вероятно, следовало бы обратить внимание как на один из способов укрепления механизмов взаимодействия со странами АТР в сфере противодействия новым вызовам и угрозам на проведение широких международных конференций под эгидой ООН.
Автор: А.В. Иванов

