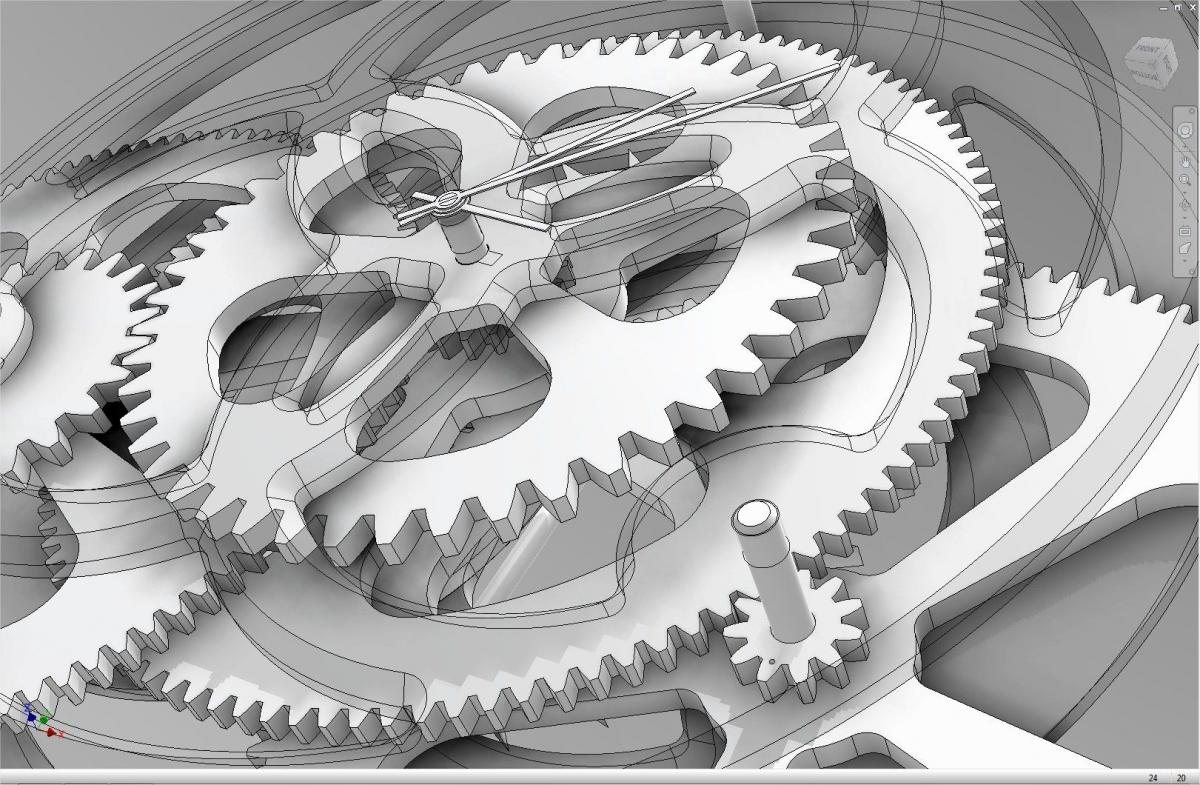
Оператор не найдёт оправдания того или иного оперативного метода, оставаясь в пределах оперативного искусства, но должен подняться на стратегический этаж мышления[1]
А. Свечин
В третьем десятилетии нового века отчетливо проявился феномен использования некоторыми государствами, прежде всего США и их союзниками, институтов развития — государственных и не государственных — в качестве эффективных инструментов силовой политики — силового принуждения, откровенного давления, даже прямого военно-силового давления на другие государства. Спектр таких институтов исключительно широк, а их влияние, например, в США рассматривалось как ключевое влияние даже на администрацию президента и конгресс страны[2].
Среди таких инструментов стратегии исключительно важное значение стали иметь идеи, концепции и общественные институты, которые во второй половине прошлого века превратились во влиятельные инструменты политики вообще и внешней политики, в частности. Надо признать, что внимание к таким институтам — идеям, концепциям и НКО — было привлечено уже в 70-е годы прошлого века, а в 80-е годы они стали прямо ассоциироваться с идеями применения «мягкой силы».
При этом нередко мы недооцениваем (особенно в 80-е и 90-е гг.) значение того, как Соединённые Штаты усиливали политику в этом направлении, превратив эти институты в новом веке в инструменты откровенно силовой внешней политики по отношению к России, а именно:
— государственные и общественные международные институты превратились с точки зрения создания «широкой антироссийской коалиции» во влиятельный механизм, заменивший по сути, прежние международные институты безопасности. Этот механизм, находящийся под контролем США, сформировал нескольких зависимых от США «кругов» — первый — из стран-членов НАТО (30 стран), второй — из западных стран и их союзников (60+), третий — из «зависимых стран», с которыми были установлены двусторонние особые отношения США (порядка 100 государств);
— с точки зрения политико-дипломатической практики усиления контроля США над государственными и негосударственными международными институтами, которые во многом стали управляемы или прямо зависимы от США;
— с точки зрения использования подконтрольных международных институтов в качестве инструментов силовой политики США.
Особенное значение приобрели идеи и концепции «нового миропорядка», которые обосновывали право США и его союзников на установление политического контроля в мире в условиях изменения мирового соотношения сил. Этот подход — принципиален и носит двухпартийный характер, который особенно ярко проявился ещё со времён президентства Буша-старшего, Обамы и Трампа.
В Стратегии национальной безопасности США, утверждённой Дж. Байденом 12 октября 2022 года, центральный акцент делается, например, на «расширении и укреплении американской коалиции»[3] как главного инструмента мировой политики в борьбе против двух основных противников России и КНР. При этом, в США «разделяют характер опасности», исходящей от этих стран, что неизбежно отражается на стратегии США пор отношению к ним. Учитывая важность этих нюансов, целесообразно привести точную цитату: «Russia and the PRC pose different challenges. Russia poses an immediate threat to the free and open international system, recklessly flouting the basic laws of the international order today, as its brutal war of aggression against Ukraine has shown. The PRC, by contrast, is the only competitor with both the intent to reshape the international order and, increasingly, the economic, diplomatic, military, and technological power to advance that objective»[4]. (Россия несёт непосредственную военную угрозу, тогда как КНР — потенциальный конкурент). Это означает, на мой взгляд, разницу в выборе силовых средств и способов политического воздействия в отношении России и КНР: для России силовые (военные и не военные), а для КНР — преимущественно силовые не военные.
Важны и две другие идеи американской национальной и военной стратегии, сформулированные в документе «Национальная военная стратегия» США, который конкретизирует СНБ от 12 октября 2022 года: во-первых, координация всех силовых средств с союзниками во взаимоувязанный комплекс силовых инструментов, а, во-вторых, «продолжающуюся кампанию»[5] (политику «по усилению военного влияния»)[6].
Соответственно видна и разница в использовании международных силовых институтов против России и КНР. Если против России применяется весь «набор» силовых инструментов — от дезинформации, политико-дипломатических мер до применения оружия, то против КНР используется гораздо менее выраженный в военном отношении набор силовых инструментов. Во всяком случае, до определённого времени. Не случайно, например, то, что на ХХ съезде КПК военную реформу НОАК объявили до 2027 года. Вероятно, в руководстве КНР предполагают, что вооружённый конфликт с США можно отодвинуть, как минимум, до 2027 года.
Этот подход очевиден в 2022 году, когда в течение всего периода западная военно-политическая коалиция проводила согласованную коалиционную и комплексную (экономическую, финансовую, военно-техническую) политику в отношении Украины и России. Она регулировалась на всех уровнях — от ООН и «Большой семёрки» до сессий Евросоюза и НАТО. Можно признать, что подобная коалиционность и комплексность (отработанные прежде на Ираке, Ливии и Сирии) позволили говорить о единой интегрированной политике, из которой иногда «выбивались» некоторые страны — Венгрия, Сербия, Италия.
Подобной консолидации (точнее контролю со стороны США) способствовал установившийся контроль над международными институтами, СМИ и «идеями», представлявшими западные нормы и правила.
В итоге, такая политика фактически заменила собой систему международного права, формировавшегося после Второй Мировой войны. Фактически эта система перестала существовать. Надо откровенно и честно признать, что международное право, предполагающее принципиальное равенство субъектов МО, особенно в деятельности международных организаций[7], прямо и принципиально противоречит такой практике, которая интенсивно внедрялась США во весь спектр существовавших международных институтов — от ООН, МВФ и ВБ до Организации по контролю за запрещением химического оружия (ОКЗХО), спортивных, культурных, образовательных и иных организаций. Феномен «отмены международного права», его замещения «нормами поведения США» отчётливо проявился в деятельности тысяч фактически подконтрольных США международных организаций.
Другими словами, США умело использовали общую глобальную тенденцию нарастания значения международных институтов в мировой политике, создав к началу 20-х годов нового столетия «свою собственную систему подконтрольных международных организаций». Влияние этих организаций нарастало стремительно после Второй Мировой войны как по объективным причинам (последствиям глобализации и усиления международного сотрудничества), так и по субъективны причинам — стремлению некоторых государств использовать эти организации в интересах своей политики.
Исключительно важную роль в начале нового века стали играть международные экономические, финансовые и экологические организации, которые к 80-м годам прошлого века превратились во влиятельные факторы мировой политики, нередко претендующие на самостоятельную роль. Во время кризиса 2022 года США доказали, что эти организации можно успешно использовать как против России, так и в поддержку Украины. В частности, решения ЕС и НАТО отчётливо носили антироссийский и проукраинский характер, а многие международные организации, считавшиеся прежде «независимыми», как, например, ОБСЕ и Совет Европы, были откровенно использованы в антироссийских целях. Этот факт поставил вопрос о целесообразности работы с ними России.
Примечательно, что целый ряд «нейтральных» международных организаций удалось использовать Соединёнными Штатами в противороссийских акциях самого широкого спектра. Так, например, «экологическая повестка» во многом была навязана международными организациями, а «зелёные» стали частью радикального политического спектра не только в Европе, но и в ряде других стран. Их мощь и усиление влияния во многом объясняется объективным усилением значения национального человеческого капитала (НЧК)[8] в мировой политике и экономике.
В этой связи международные организации стали важной частью более широкого понятия «институты развития НЧК», значение которого в России не было оценено своевременно. Уничтоженные в 90-е годы многочисленные советские международные организации, которые пользовались серьёзным влиянием в мире (Комитет защиты мира, Комитет молодёжных организаций, Союз советских обществ дружбы и др.), лишили Россию многих возможностей и огромного международного потенциала, накопленного десятилетиями в СССР. В период кампании по «международной изоляции России» Западом в 2021–2022 годах этот потенциала
мог сыграть, как и во времена СССР, исключительно важную роль.
Стратегия, как идея, образ проведения и политика, в 2022 году играла исключительно важную роль, доказывая, что без т очной оценки соотношения сил, фактора времени, других ресурсов, политика лишается эффективности. К сожалению, в 2022 году мы были свидетелями не раз как не адекватности стратегии России, так и плохого исполнения её задач.
Говоря об эффективности политики национальной безопасности и развития (напомню, состоящей из двух групп множителей, во-первых, — ресурсов и, во-вторых, — стратегии + политической воли), мы регулярно подчёркиваем значение двух важнейших компонентов, составляющих «второй множитель», — политической воли и стратегии. Именно эти составляющие стали объектом влияния как государственных, так и негосударственных организаций. Если воля В.В. Путина не вызывала сомнений, то воля ряда представителей правящей элиты (и способность к решению задач) была не раз очевидно недостаточна.
Не хватало качества и у других составных частей стратегии России в 2022 году. Известно, что эффективность стратегии, в свою очередь, зависит, как известно, от ряда факторов — точности целеполагания, ясного выбора наиболее эффективных средств и способов достижения цели и наличия механизма реализации этой стратегии. В конечном счёте, — от качества идей и концепций.
Последнее условие — крайне важно, например, для реализации российской СНБ, где так и не удалось вплоть до самого последнего времени создать такой механизм. Особенно в военно-технической области, где интеллектуальное отставание обходится слишком дорого потому, что закладывается инерция отставания в реальных секторах.
И, наоборот, там, где осуществляется концептуальный и технологический прорыв, неизбежен не только военный, экономический, но и политический результат. Как это произошло с созданием противоспутникового оружия «Нудоль» в России[9], которое вынудило США вернуться к попыткам переговорам о запрещении этого вида оружия в апреле 2022 года.
Многочисленные (и нередко неплохие) стратегии, доктрины и концепции, созданные в России в последнее десятилетие, совершенно не обеспечены сколько-нибудь работающими механизмами их реализации.
Эти механизмы нередко не предусматривают ни конкретных исполнителей, ни их ответственности, а часто не обеспечены даже сколько-нибудь реальными ресурсами. Получается, что стратегия, утверждённая указом президента или постановлением правительства, остаётся всего лишь формально существующим, но не исполняемым нормативным документом[10]. Это в полной мере отразилось на СНБ в 2022 году, которая устарела относительно многих идей и концепций 2021 года, а, главное, так и не способствовала появлению эффективного механизма её реализации. СНБ в 2022 году оказалась фактически забытой.
Между тем, именно наличие эффективного механизма её реализации является важнейшим показателем предлагаемой стратегии. Может быть, более важным чем все остальные: неточное целеполагание, этапность исполнения, распределение ресурсов и пр. действия могут быть скорректированы в процессе реализации стратегии, что нередко и бывает неизбежным, но если нет механизма реализации, то любая стратегия становится простым пожеланием, а не политической волей[11].
Точное целеполагание, прогноз и стратегическое планирование, идеальное распределение национальных ресурсов и пр. условия формирования национальной стратегии не могут быть исчерпывающими условиями без существования эффективного механизма её реализации. Даже самый лучший план и идея останутся в лучшем случае только планом и не будут реализованы без наличия такого механизма.
В XXI веке появились уникальные возможности, вытекающие из реалий информационной революции для резкого повышения качества управления. В том числе и государственного. Огромные базы данных, средства их мгновенной обработки и передачи, наконец, появление искусственного интеллекта (ИИ) способствовали тому, что принимаемые решения на всех уровнях могли быть быстро реализованы.
С точки зрения национальных стратегий это привело к стремительному развитию многочисленных механизмов — политических, экономических, идеологических, военных — и алгоритмов их реализации, которые, легли в основу разработки методов гибридных войн[12], но, однако, пока что не сказались качественно на реализации принимаемых стратегических решений, например, в России.
Эффективность государственного управления зависит от многих факторов, но, прежде всего от двух, принципиальных и наиболее важных:
— нравственных качеств представителей национальной элиты, которые выражаются в приоритетности национальных интересов над личными, групповыми или просто обывательскими.
Процесс нарастающего преобладания личных интересов над партийными (сначала), а затем и национальными, и государственными достиг своего апогея в 90-е годы, когда страну уничтожали публично и «с удовольствием», грабили и готовили к разделу. Но и позже, в своём большинстве правящая элита так и не смогла подняться на «стратегический этаж» мышления категориями национальных и государственных интересов. Сохранилась система ценностей, основанная на преимущественно личных интересах, о которых Д. Медведев говорил, как о «комфортном существовании»;
— реальной национальной стратегией развития и обеспечения безопасности и волей её реализации, эффективным механизмом управления. Надо признать, что это понятие («эффективное государственное управление»), во многом, прямо противоречит существующей в России стратегии, в основе которой лежит политическая ориентация значительной части правящей элиты и общества на западную (во многом антироссийскую) систему ценностей, предполагающей сознательный развал российского государства и его институтов, откровенный конформизм и коллаборационизм правящей элиты с политическими противниками[13].
Отход от этой изначально пораженческой стратегии — политически, экономически, финансово и идеологически, — правящей элиты России происходит крайне медленно и непоследовательно, нередко формально[14].
Не стоит недооценивать сохранение влияния как компрадорской правящей элиты, так и либерально-западнической предательской стратегии.
Мировой опыт свидетельствует, что сохранение государства и нации сколько-нибудь долго невозможно в условиях, когда предательство большинства правящей элиты препятствует этому. Это было наглядно видно в последнее десятилетие прошлого века в СССР и в России, когда государство, экономика и общество подошли к границе самоуничтожения. Но последствия этого развала не преодолены даже в третьем десятилетии (впрочем, развал периода «великой смуты 1611–1613 годов, по мнению Г.В. Вернадского, например, был преодолён только через 40 лет, т.е. к 1653 году. Вероятно, что прав, все-таки, ставший американским политологом Н. Злобин, когда говорит о том, что в современный период «правящая элита США наблюдает за медленным умиранием России как великой державы»: нарастающее отставание России от передовых стран измеряется уже десятилетиями и это не может компенсировать ничто.
История, повторю, многократно подтверждала, что неправильно избранная стратегия и предательство элиты всегда приведёт в итоге к уничтожению государства, а затем, неизбежно, и нации. В этой связи напомню, что в XII–XIV веках правящая элита Византии отказалась от системы национальных ценностей, православия и имперского начала в государственном управлении в пользу нарождавшейся «вестернизации» в Европе, что и стало, в конечном счёте, причиной уничтожения уникальной цивилизации и падения в 1453 году Константинополя, последующей многовековой деградации уникальной мировой культуры.
Таким образом, проблема эффективности государственного управления вытекает во многом из качества правящей элиты, институтов государства и существующей стратегии[15]. Проблема низкой эффективности государственного управления[16] стала окончательно общепризнанной в России во втором десятилетии нашего века (хотя периодически об этом говорилось все последние 30 лет существования России, когда лучшим средством стратегического планирования был признан … полный отказ от оного, либо фактический саботаж принимаемых решений), что стало, на мой взгляд, главной причиной низких темпов восстановления страны и её безопасности. Но это во многом, если ни в главном, стало результатом предательства национальной элиты, которая в своём большинстве перестала быть национальной. Эффективность её управления страной и обществом, — оценивая по любым критериям, — была не просто низкой, а преступно низкой. Это могло произойти только в условиях, когда не существует никакой ответственности за результаты такого управления страной, отраслью, регионом[17].
Иными словами, без смены правящей элиты и национальной стратегии изменить в сторону повышения эффективности государственное управление невозможно. Это — важный и принципиальный тезис потому, что до настоящего времени искусственно насаждается иллюзия о неких «демократических», «особенно эффективных методах» управления, которых просто-напросто не существует, но использование которых противопоставляется «авторитарным методам В. Путина»[18].
Вместе с тем существуют попытки и примеры, в том числе мирового опыта, который свидетельствует, что есть эффективные критерии измерения качества государственного управления, например, разработанные и используемые Всемирным банком, база данных которых охватывает более 200 стран и используется активно с 1996 года. Не вдаваясь в детали, отмечу, что существующие 6 критериев позволяют оценивать эффективность государственного управления в диапазоне от 02,5 до +2,5. Соответственно, что чем выше этот показатель, тем лучше.
Так, например, лучшие с точки государственного управления страны Сингапур и Швейцария получают 2,5 и 2,4 балла, а худшие — Южный Судан и Йемен — 0 2,45 и — 2,24. Россия, соответственно, — 0,006, а США и Германия + 1, 58 и +1,62[19]. Как видно, эксперты ВБ оценивают эффективность госуправления в России как очень низкую, в особенности, в сравнении с лидерами.
Как говорилось, качество правящей элиты и качество стратегии России были все эти годы чрезвычайно низкими. Соответственно, что в таких условиях говорить об эффективном госуправлении было бессмысленно. Это в полной мере относится и к таким областям как управление ВС и ОПК, которые — надо отметить — в силу сохранения государственнических традиций и объективных требований, в наименьшей степени пострадали от хаоса в государственном управлении, когда представители элиты не несли ответственности за результаты, а любые меры и средства повышения эффективности управления были не востребованы, более того, мешали главной цели правящей элиты — её обогащению. Хаос «перестройки» и «реформ» неизбежно вёл к сознательному хаосу в государственном управлении, который выражался в скороспелых и вредных реформах и назначениях, безответственности в принимаемых решениях.
Поэтому в 90-е годы было сложно говорить не только о прогнозе и планировании, но и о сколько-нибудь системном управлении деградирующей страной, которая во всё большей степени попадала в зависимость от Запада, превращаясь в «падающее» государство с неработающими институтами. 1999 год в истории России можно с полным основанием сравнить с 1613 годом, когда фактически Россия, как единое государство, уже не существовала, а её институты стремительно деградировали. Это стало главной причиной того, что к концу 90-х годов США и их союзники практически публично оставили «умирающего», чтобы не участвовать в его «погребении», полагая, что всё равно смогут быть первыми при разделе наследства.
Особенно хочу при этом подчеркнуть негативную роль внешнего фактора — политики США и их союзников, — которые системно и настойчиво подталкивали Россию к катастрофе. Важнейшую роль в этом процессе сыграли МВФ и «руководящая роль» советников из США, прежде всего, Дж. Сакса[20] и его команды, которые предложили «стратегию» социально-экономических реформ в духе абсолютной стихии рынка», что означало не только отказа от сколько-нибудь осознанной национальной стратегии развития, но и полной дезориентации и разложения национальной элиты под лозунгом «обогащайтесь!». Позже, даже главный идеолог этих реформ Дж. Сакс признал применительно к российской правящей элите, что «Главное, что подвело нас, это колоссальный разрыв между риторикой реформаторов и их реальными действиями…
И, как мне кажется, российское руководство превзошло самые фантастические представления марксистов о капитализме: они сочли, что дело государства — служить узкому кругу капиталистов, перекачивая в их карманы как можно больше денег и поскорее. Это не шоковая терапия.
Это злостная, предумышленная, хорошо продуманная акция, имеющая своей целью широкомасштабное перераспределение богатств в интересах узкого круга людей».
[1] Свечин А. «Стратегия». // Свечин А. Стратегия / Вступит. слово И.С. Даниленко; М.: Кучково поле, 2003, с. 58.
[2] Так, например, в статье 5 ноября 2022 года отмечалось, реальное управление Соединенными Штатами находится в руках теневого правительства, которое контролирует миллиардер Джордж Сорос через сеть подконтрольных ему организаций. Такое мнение высказал в своей статье для издания American Thinker обозреватель Брайан Камэнкер. Он считает, что президент США Джо Байден только чисто номинально является главой государства. Современная стратегия национальной безопасности России
[3] National Security Strategy. The White House, Oct., 2022, P.4-7// https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf
[4] Ibidem.
[5] Campaign — зд.: политика концентрации усилий в военной области (в русском языке трудно найти эквивалент).
[6] 2022 National Defense Strategy of The United States of America. U.S. Department oa Defense, October 27, 2022.
[7] Международные организации — зд.: объединение межгосударственного или негосударственного характера, созданное на основе соглашений (например, ООН обладает уставом, а ОБСЕ, в силу специфики деятельности, нет). Международные организации делятся на международные межправительственные (межгосударственные) организации и международные неправительственные (негосударственные, общественные) организации (МНПО).
[8] См. подробнее: Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. М.: МГИМО МИД РФ. В 3-х тт., 2011–2013 гг.
[9] «Убийца спутников» — перехватывает даже в космосе / Эл. ресурс: «Патриот», 15 марта 2022 г. / https://zen.yandex.ru/media/patriot1/ubiica-sputnikov-perehvatyvaet-daje-v-kosmose-pochemuvseh-tak-porazila-nudol-622f94ea8a5741064303aec2
[10] См. подробнее: Подберёзкин А.И. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. М.: МГИМО-Университет, 2016, с. 467.
[11] Назаров В.П., Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. Необходимость корректировки стратегии национальной безопасности России // Научно-аналитический журнал Обозреватель-Observer. 2020. № 1 (360), сс. 44–52.
[12] Бартош А.А. Взаимодействие в гибридной войне / Военная мысль, 2022, № 4, сс. 7–8.
[13] Путин В.В. Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» № 400 от 2 июля 2021 г. / https://cdnimg.rg.ru/pril/article/212/57/79/0001202107030001.pdf
[14] В первой половине 90-х годов я пытался не раз привлечь внимание к этой теме. См.: Подберёзкин А.И. и др. Россия перед выбором. М.: ВОПД «Духовное наследие», 1995. 168 с., а также: Подберёзкин А. И., др. Национальная доктрина России. М.: ВОПД «Духовное наследие», 1994. 503 с.
[15] См. подробнее: Подберёзкин А., Родионов О. Институты развития человеческого капитала — альтернатива силовым средствам политики // Обозреватель, 2021, № 7, сс. 33–48, а также: Боброва О., Подберёзкин А., Подберёзкина О. Специфика НКО и правовые основы их деятельности/ Обозреватель, 2021, № 8, сс. 17–48 и др.
[16] Эта проблема стала не только очевидна, но и крайне актуальна к концу 90-х годов. Я посвятил её несколько работ, например: Подберёзкин А.И., Макаров А.И. Стратегия для будущего президента России. М.: ВОПД «Духовное наследие», 1999. 356 с.
[17] См. подробнее: Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. М.: МГИМО-Университет, 2011. Т. III. 848 с. Книга первая: «Идеология русского социализма: предпосылки возникновения, основные положения, ценности, принципы и нормы»; Книга вторая: «Идеология русского социализма и стратегия национального развития»; Книга третья: «Креативный класс и идеология русского социализма».
[18] Подберёзкин А.И. Путём санкций, шантажа и военных угроз. Красная Звезда, 15 апреля 2022 г. / http://redstar.ru/putyom-sanktsij-shantazha-i-voennyh-ugroz/.
[19] Индикаторы мирового развития: монография / кол. авт.; под ред. Л.М. Капицы. 3-е изд., перераб. и доп. М: КНОРУС. 2021, сс. 441–444.
[20] Сакс Дж. (Sachs Jeffrey) — американский экономист. Один из разработчиков политики «шоковой терапии» в Боливии, Польше и России. С осени 1991 года по январь 1994 года был руководителем группы экономических советников президента России Бориса Ельцина. В 1998 году Сакс крайне негативно оценил ряд действий российских реформаторов.


