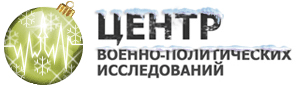Стратегический прогноз состоит из взаимоувязанных научно-технологического, социально-экономического, демографического прогнозов, а также прогнозов в области национальной обороны и государственной и общественной безопасности. Он должен дать представление о перспективном облике Российской Федерации, сбалансированном по уровню социально-экономического развития и состоянию национальной безопасности, показать возможные сценарии развития, а также определить оптимальный сценарий долгосрочного развития Российской Федерации, направленный на преодоление стратегических вызовов, угроз и рисков, реализацию конкурентных преимуществ России в мировом сообществе с учётом имеющихся материальных, технологических, кадровых и иных ресурсов.
Положения Стратегического прогноза определяют вектор внешней и внутренней политики Российской Федерации. Они дают картину возможной модели экономического роста России, инвестиционной и кредитно-денежной политики, факторов повышения конкурентоспособности отраслей экономики Российской Федерации. Стратегический прогноз должен содержать несколько сценариев развития, среди которых выбирается оптимальный, формулируются условия его реализации — параметры развития экономики, науки и технологий, социальной сферы, здравоохранения и образования, тенденции регионального развития. Впоследствии они составляют основу целеполагания. Важно, чтобы прогнозные сценарии предусматривали вероятность появления «черных лебедей» и их влияние. Так обычно называют трудно прогнозируемые и редкие события. Кстати, этимология данного термина намного старше открытия Австралии, где была обнаружена эта порода лебедей. Она берет своё начало от известной цитаты древнеримского поэта-сатирика Ювенала, который писал о «редкой птице на земле, подобной чёрному лебедю».
В соответствии с Федеральным законом № 172-ФЗ Стратегический прогноз разрабатывается по поручению Президента Российской Федерации Правительством Российской Федерации при участии государственных академий наук на период до 30 лет и корректируется каждые 6 лет с соответствующей пролонгацией периода прогнозирования. Его концептуальные положения выносятся на рассмотрение Совета Безопасности Российской Федерации и утверждаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Первый стратегический прогноз был подготовлен в соответствии с этой процедурой в конце 2020 года и лёг в основу новой редакции Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
Следует признать, что при подготовке данного документа за образец были взяты доклады Национального совета по разведке США «Глобальные тенденции» (National Intelligence Council’s Global Trends report), которые публикуются каждые 4 года, начиная с 1997 г., и существуют в открытом и закрытом вариантах.
Значительный массив информации по тематическим блокам, разноплановость оценочных и прогнозных характеристик данного документа диктуют необходимость формирования сводной части Стратегического прогноза, прежде всего в интересах стратегического целеполагания. Сводная часть даёт возможность вырабатывать совокупность общих прогнозных оценок по основным аспектам обеспечения национальной безопасности, сведённых в единую логику прогнозирования. Эти укрупнённые оценки призваны сформировать целостную картину облика Российской Федерации в долгосрочной перспективе, например, на рубеже 2040–2050 годов. Сводная часть базируется на ограниченном числе обобщённых показателей состояния национальной безопасности, при этом показатели оптимального сценария служат индикативными и пороговыми значениями для последующего использования в концептуальных (стратегиях и доктринах) и программно-плановых документах стратегического планирования. В политическом плане формирование сводной части Стратегического прогноза важно тем, что у Президента Российской Федерации, осуществляющего руководство стратегическим планированием, для целеполагания появляется инструмент макрооценок развития ситуации, не перегруженный частными факторами и значениями[1].
В современный период СП социально-экономического развития России разрабатывался практически без учёта состояния МО-ВПО и внешних факторов (исключая прогноз углеводородов). Как правило, предлагалось 3 сценария — консервативно-инерционный, интенсивный и, которые носили механический характер, что хорошо видно на примере СП, разработанного МЭР в 2013 году до 2030 года. В частности, с точки зрения внешнеэкономической деятельности рассматривались следующие варианты, которые исходили из темпов «встраивания российской экономики в мировой рынок», а не национальных интересов. Как было сформулировано в СП МЭР в 2013 году: Рассмотренные сценарии прогноза определяют следующие основные развилки встраивания российской экономики в мировой рынок[2].
В консервативном сценарии экономика будет развиваться по сложившейся модели участия России в международном разделении труда, основанной на экспорте энергоносителей. В условиях снижающегося потенциала роста экспорта топливноэнергетических товаров и металлургической продукции, доля которых за 2012 год составила почти 80%, физические темпы роста экспорта будут зависеть от того, насколько быстро сможет измениться структура российского вывоза в пользу товаров, имеющих потенциал для устойчивого роста. Рост внешнеторговых поставок энергоносителей в консервативном сценарии составит в среднем 0,2% в год в 2016–2030 гг., в то время как нетопливный экспорт в этот период будет расти на 5,5% в год.
Доля топливноэнергетических товаров на протяжении прогнозного периода уменьшится и к 2030 году эта группа товаров будет составлять немного меньше половины всего экспорта. Без прорыва на новые рынки товаров и услуг с высокой долей добавленной стоимости Россия обречена на отставание от темпов развития мировой торговли и вытеснение из активного участия в мировом разделении труда. Реализация консервативного сценария развития предполагает доминирование сырьевого сектора в экономике. Это связано с сохранением традиционной роли поставщика первичных энергоресурсов и сырья низкой степени переработки, что не позволяет поднять физические темпы роста экспорта выше 2,4% в год в 2016–2030 гг. Доля машин и оборудования в структуре экспорта составит к 2020 году около 6%, тогда как топливно-энергетических товаров не опустится ниже 58%, к 2030 году доли составят 7% и 47% соответственно.
Сценарий инновационного развития предполагает альтернативный тип участия в международном разделении труда, основанный на диверсификации. К 2030 году структура экспорта значительно изменится в пользу товаров более высокой степени переработки. На фоне стабилизации экспорта топливно-энергетических товаров динамика экспорта начнёт всё в большей степени опираться на расширяющийся экспорт несырьевой продукции, динамика которого будет составлять в среднем около 8% в год.
В структуре экспорта товаров ожидается увеличение доли машин и оборудования, химической продукции, продовольствия при снижении доли энергоносителей до уровня 38,8% в 2030 году. Так, экспорт машиностроительной продукции увеличится с 26,5 млрд. долларов США (5,0% от экспорта товаров) в 2012 году до 53 млрд. долларов США (7,6% от общего объёма экспорта) в 2020 году и до 141 млрд. долларов США (9,8% от экспорта) в 2030 году. Удельный вес экспорта химической продукции увеличится с 6,1% в 2012 году до 10% в 2020 году и 16% в 2030 году, продовольственных товаров — с 3,2% до 5 и 8 процентов. В случае благоприятной динамики внешнего спроса эти процессы будут определять ускорение физического роста экспорта с 1,4% в 2013–2015 гг. до 3,9% в 2016–2030 годах. Стоимостные объёмы экспорта в текущих долларах США увеличатся с 529 млрд. в 2012 году до 705 и 1438 млрд. долларов США в 2020 и 2030 году соответственно.
В форсированном сценарии происходит существенное расширение экспорта продукции высокой степени переработки. Экспорт нетопливных товаров растёт в период 2016–2030 гг. в среднем на 9%. Структура и динамика. Экспорт машин и оборудования увеличивается к 2030 году в 8 раз, до 205 млрд долл. США, что в сопоставимых ценах приблизительно соответствует сегодняшнему экспорту машиностроительной продукции Тайваня. За этим стоит существенная модернизация производства и усиление мер поддержки экспортёров и продвижения товаров на внешних рынках. Стоимостные объёмы экспорта вырастут до 1615 млрд. долларов США в 2030 году. В форсированном сценарии ожидается рост конкурентоспособности отечественной продукции не только на внешних рынках, но и на внутреннем, максимальная реализация потенциала импортозамещения.
Прирост внутреннего спроса к 2030 году на три четверти покрывается приростом произведённых на территории России товаров и услуг против менее половины в 2011 году. Импорт в форсированном сценарии будет расти темпом 5,7% в год. В структуре импорта к 2030 году большую часть будет занимать инвестиционный импорт (38%). Стоимостные объёмы импорта вырастут до 1244 млрд долл. США в 2030 году.
Очевидно, что данный прогноз, отражавший существо экономической политики и взглядов правительства в России, во-первых, совершенно не учитывал влияния внешних факторов МО, в том числе военно-политических, которые оказались очень сильными в последующие годы.
Во- вторых, СП от 2013 года, как очевидно следует из его текста, совершенно не предусматривал активных действий власти в области внешней торговли. Его суть хорошо изложена в самом начале раздела — «встраивание» России в мировую экономику. СП придерживается «макроэкономической традиции» — математической экстраполяции возможных моделей, которые совершенно не учитывают важнейшие стратегические факторы — политическую волю и изменение внешних условий.
В-третьих, в СП совершенно не видна главная стратегическая задача экономического развития, в т.ч., вытекающая из внешнеэкономической деятельности, т.е. в СП отсутствует целеполагание.
Авторы: А.И. Подберезкин, О.Е. Родионов
[1] Назаров В.П. Развитие теоретических и методологических основ стратегического планирования: монография / В.П. Назаров; под общ. ред. Т.А. Алексеевой. М.: КНОРУС, 2022. 332 с
[2] Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. М.: МЭР, 2013. 354 с. / http://static.government.ru/media/files/41d457592e04b76338b7.pdf