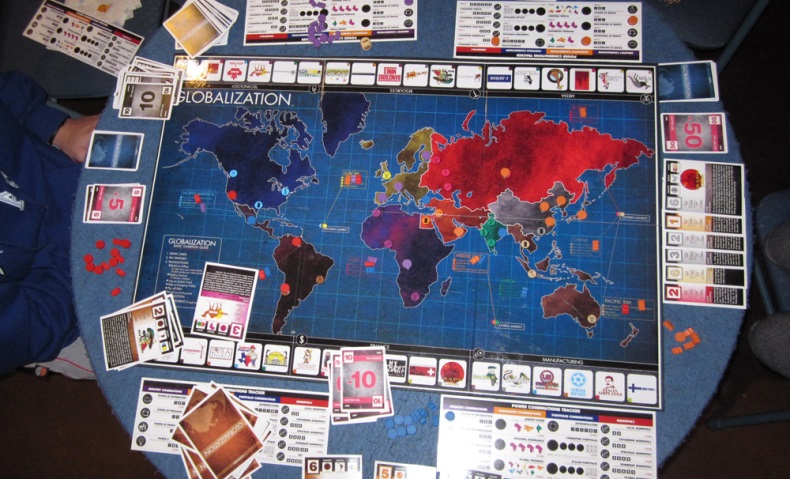
В XXI веке успешными будут государства, способные воспользоваться историческим опытом для интеграции современных показателей силы и жизнеспособности[1]
А. Цыганков, профессор Калифорнийского университета
Война – это вооруженное столкновение между двумя независимыми политическими единицами с использованием организованной военной силы в целях проведения государственной политики[2]
К. Клаузевиц
Реализация того или иного сценария и конкретного варианта ВПО в мире во многом предопределена развитием объективных процессов в международной обстановке (МО), частью и следствием которого они являются. Также говорилось о том, что такие сценарии МО формируются под влиянием многих факторов и тенденций, среди которых выделяются по своему значению отношения между важнейшими субъектами - ЛЧЦ и их военно-политическими коалициями. Таким образом формирование конкретного варианта того или иного сценария развития ВПО проходит несколько основных этапов[3]:
– этап развития отношений между ЛЧЦ, центрами силы и коалициями по тому или иному общему сценарию (противоборство Древней Греции и Карфагена, которое сменяется противоборством Карфагена и Рима, а затем Рима и Македонии, Сирии, Египта, племён варваров и т. д.), в результате которых формируются те или иные МО и их части – ВПО и СО;
– из очередного этапа противоборства ЛЧЦ и коалиций логически следует этап развития одного из вероятных сценариев МО (например состояния МО, характеризуемого противоборством основных коалиций – Рима и Карфагена);
– на каждом из таких этапов развития сценария МО происходит достаточно естественное формирование того или иного сценария ВПО как части сценария МО (например, сценария ВПО, когда Ганнибал более 10 лет воевал на территории Аппенин, или ВПО, когда шла борьба за колонии Карфагена и Рима, или этап развития ВПО, когда шла война на территории собственно Карфагена и его разрушение и т.д.);
– как правило, на очередном этапе развития того или иного сценария ВПО происходила смена варианта этого сценария, а затем развитие того или иного нового конкретного варианта этого сценария ВПО (например, когда Рим смог построить флот или оккупировал Испанию, а также – Сицилию, Корсику, Сардинию, - как основную базу Карфагена и т.д.).
В любом случае в целях прикладного политического исследования нам необходимо определиться с основным (базовым) сценарием развития ВПО и его конкретным вариантом, их основными особенностями и характерными чертами. Это позволит нам развивать анализ такого сценария и его конкретных вариантов, а также делать стратегический прогноз развития конкретного сценария ВПО и его варианта, что, собственно говоря, и является нашей главной задачей. Для военных эта логика также имеет значение потому, что стратегическая обстановка (СО) складывается вокруг конкретного варианта того или иного сценария развития ВПО в регионе или на ТВД. Так, в 1943 году конкретный вариант сценария развития ВПО характеризовался вооруженной борьбой двух военно-политических коалиций на отдельных ТВД, главным из которых был СССР, но, кроме него ещё и развивалась вооруженная борьба в Тихом океане, Северной Африке и на Сицилии. Причём именно летом 1943 года на Курской дуге произошел коренной перелом в войне и СО резко изменилась в пользу СССР.
Таким образом, я полагаю, что можно, используя дедукцию, основанную на опыте, логике и широком объеме информации , а также экспертных оценках, выйти в результате исторического и логического анализа на тот или иной конкретный сценарий (и его вариант) развития ВПО в мире, который доминирует сегодня и, вероятно, будет преобладать в будущем. Очевидно, что эта авторская концепция будет достаточно субъективна, но я полагаю, что, во-первых, без гипотезы (авторской концепции) логическое построение вообще невозможно, а, во-вторых, в реальности такая гипотеза носит достаточно обоснованный характер потому, что она является результатом опыта и оценки, основанного на анализе многочисленных факторов. В нашем случае таким сценарием развития ВПО стал «Сценарий №3» «Военно-силового развития ВПО», который стал, с одной стороны, конкретной реализацией «Варианта №3» сценария развития МО «Эскалации военно-силового противоборства», а с другой стороны, основанием для формирования разных вариантов развития СО (преимущественно на основных направлениях – Юго-западном, Западном, Кавказском и Центрально-азиатском) и различных войн и военных конфликтов (в Сирии и на Украине).
В самом общем виде первые шаги в логическом анализе влияния ЛЧЦ на формирование того или иного сценария МО сделаны в предыдущих работах, а также в разделах выше. В этой части важно обратить внимание на процессы формирования собственно ВПО, и влиянии процессов, происходящих как на более высоком уровне – формирования МО, – так и на влиянии военно-стратегических последствий и результатов конкретных войн и конфликтов, происходящих на уровне СО. В том числе и на процессах формирования ВПО в мире и в отдельных регионах.
Иными словами, целью является вычленение в конечном счёте конкретного сценария развития ВПО и его варианта на данный период времени, учитывая комплекс факторов влияния МО и СО. Так как численность факторов и субъектов МО, влияющих на ВПО, намного больше, то наибольшую трудность представляет задача не пропустить наиболее значимые (как правило, формально не военные) факторы влияния МО для формирования ВПО в мире или регионе. Так, например, в апреле 2019 года в Базеле Банк международных расчетов принял решение по программе «Базель-III». Теперь банки могут учитывать золото в составе собственного капитала по его 100%-ной цене (I категория активов) вместо 50%-ной (III категория активов). между золотым стандартом, Бреттон-Вудом (с его фиксированной ценой на тройскую унцию в долларах) и пост-Бреттон-Вудом – вплоть до Базеля I , то есть до первого решения Базельского комитета по банковскому надзору, которое было принято в 1988 году, как раз перед окончательным крахом СССР, можно проследить скачки по дезинкарнации богатства. Золото конкретно. Доллар, привязанный к золоту, несколько менее конкретен, это только обещание золота. Доллар после 1971 года уже даже не обещание золота, а просто обещание, за которым маячит только американское военное могущество[4].
В 80-е начинается процесс по дальнейшей виртуализации богатства – развитие финансовых рынков, а также деривативов, хедж-фондов, «портфельных инвестиций», фьючерсов и т.д., что делает сами бумажные деньги (cash) своего рода анахронизмом.
Как реакция на это в 2004 году происходит Базель – II, устанавливающий новые правила более жесткой банковской отчетности и расширяющий полномочия регулятора, поскольку виртуализация экономики повышает уровень рисков. Постепенно транзакции переходят в сферу Internet, пиком чего является появление криптовалют и системы blockchain. Казалось бы, этот сдвиг кладет конец однополярной глобализации с доминацией США и доллара, с опорой на военную мощь Deep State, и позволяет перейти к произвольной эмиссии, связанной только с рыночными процессами внутри сети, не привязанными вообще ни к какому эквиваленту – отсюда майнинг и т.д. Этот процесс продолжает логику глобализации, состоящую в переходе от однополярного мира к безполярному и к созданию в ближайшей перспективе Мирового Правительства, One World, цифровой демократии и глобальной либеральной Империи, интегрированной единую сеть – с Искусственным Интеллектом в качестве вначале помощника, а потом и доминатора.И вот в такой ситуации происходит Базель III. Как это надо понимать? Прав ли А.Халдей, называющий финальную имплементацию решений Базеля – III 29 марта 2019-го по изменению категории золота с третьей на первую, самой настоящей революцией?
Конечно, полная оценка стоимости золота в банковском пассиве еще не возврат к Бреттон-Вуду и тем более к золотому стандарту. Но… что-то в этом роде. Если мы допустим, что это лишь намек на подобное движение, одно только это уже есть настоящая революция – причем Консервативная Революция. Надо учитывать контекст, в котором это решение принято. Несколько фундаментально важных держав – Китай, Россия и Иран (как минимум) -- решительно настроены на многополярность. Если золото становится полноценным банковским пассивом, строго эквивалентным самим деньгам, то что же теперь мешает всем «выйти в золото»? Сразу возникает наивный вопрос: у кого золота больше? Это вообще не имеет никакого значения. Если оно торгуется на рынке, его всегда можно купить, сколько бы оно ни стоило. В отличие от доллара золото никому не принадлежит, а в отличие от криптовалют – оно пальпабельно, то есть верифицируемо процедурами оффлайн технологий. Доллар тоже никому не принадлежал бы, будь его основой нефть или что-то еще, что торгуется. Но американская военная машина не торгуется. Пока. А вот в условиях возврата к золоту – будет торговаться. Нет цены только у того, что само устанавливает цену. У всего остального есть цена, пусть большая, но есть. США в условиях золотого эквивалента не смогут отказать в продаже своего оружия – включая самое новейшее, если только не провозгласят социализм или национал-социализм. В любом другом случае все покупается. Но социализм или национал-социализм в США это другая история, отныне, кстати, вполне возможная, что заставляет иначе посмотреть на Трампа. – Базиль–III меняет нашу оптику.
Криптовалюта как эпифеномен пост-однополярной глобализации тоже в таком случае good bye. Если же привязать ее к золоту, то пропадет ее исторический смысл, и она превратится в дополнительный финансовый инструмент наряду с другими. Blockchain же может быть полезен сам по себе для повышения прозрачности сделок и контроля, но функции полной автономности сетевых транзакций он утрачивает.
Понятно, что это решение неизбежно ведёт к изменению в соотношении сил между различными центрами финансов в мире. В частности, для США (которые контролируют самую большую часть мирового золотого запаса) это нововведение равносильно единоразовому «впрыскиванию» в американскую экономику примерно 4,5 триллионов долларов. Т.е. простое решение, даже манипуляция в критериях финансов, ведут к огромному выигрышу США, который в 2 раза больше российского ВВП и равен американскому бюджету. В этих условиях, например, «Золотой бонус» России равен примерно 45 миллиардам долларов, или 2,96 триллионам рублей, т.е в 100 раз меньше, чем для США, не смотря на политику последних лет по скупке золота в ЗВР страны («благодаря» отказу России многие годы от покупки долларов и только недавно начатой политике по приобретению металла взамен американских ценных бумаг, эта сумма могла бы быть существенно выше).
Очевидно, что в условиях санкций и торговой войны России с Западом, когда угроза захвата активов вполне реальна, запоздалая политика по скупке золота, начатая недавно, безусловно важна для финансового положения и внутриполитической стабильности страны. Она во многом компенсирует падение экспортной выручки из-за санкций. Таким образом один из факторов (финансовая стабильность) формирования МО повлиял не только на международное финансовое положение страны, но и на устойчивость её финансовой системы, а косвенно и на устойчивость ВПО.
Автор: А.И. Подберёзкин
[1] Цыганков А. Сильное государство: теория и практика в XXI веке // Россия в глобальной политике. 2015. Март–апрель. – С. 16.
[2] Цит. по: Шнирельман В.А. У истоков войны и мира. Война как предмет исследования. – М. 1994. – С. 56.
[3] См. подробнее: Стратегия национальной безопасности России в XXI веке : аналитич. доклад / А.И. Подберезкин ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политич. исследований ; АО «Концерн ВКО „Алмаз–Антей“». – М. : МГИМО–Университет, 2016. – 338 с.
[4] Дугин А. Базель III. Возвращение золота и консервативная революция / Эл. Ресурс: «Геополитика». 05.04.2019.



