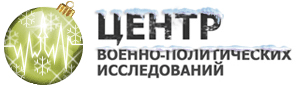Каждый народ в известную эпоху имеет свой политический идеал... Если мы видим народ, который не имеет уже более никаких политических целей впереди, которому нечего желать и не за что бороться, то мы можем быть уверены, что он уже выполнил свою роль в истории, что он клонится к упадку, находится в периоде вырождения[1].
Е.И. Мартынов, русский военный теоретик[2]
Весь период с конца 1970-х годов в СССР и России характеризовался отсутствием сколько-нибудь продуманной, обоснованной, системной и последовательной стратегии развития государства.
Если рубеж и первую половину 80-х годов можно охарактеризовать как период вялых попыток правящей советской элиты улучшения политико-идеологической доктрины и стратегии социалистического раз вития со стороны дряхлеющего советского руководства[3], то следующий период – после прихода к власти Горбачёва и его окружения из «внутрисистемной оппозиции КПСС», – полным отсутствием сколько-нибудь продуманной созидательной идеологии и стратегии развития. Эту пустоту заменила откровенная ставка на публичную «деидеологизацию» и «борьбу с этатизмом» (т. е. как в первом, так и втором случае – государством).
В реальности был дан старт разрушению существовавшей системы ценности и институтов, в том числе идеологических и политических.
Отсутствие идей, концепции и, как неизбежный результат, стратегии у Горбачёва (что совершенно не беспокоило ни лично его, ни его окружение) вело страну к неизбежному хаосу, который закономерно наступил в 1990–1991 гг.
Именно в этот период, на рубеже 80-х и 90-х годов, на Западе осознанно и целенаправленно делали ставку не на мнимых, а реальных политико-идеологических и экономических приоритетах в развитии общества и государства – приоритетах развития человеческого капитала, когда была создана специальная комиссия (ПРООН), выработаны наиболее приоритетные критерии (образование, душевой доход и ожидаемая продолжительность жизни), вычленено исключительное значение институтов развития национального человеческого капитала (НЧК).
Другими словами, в то самое время, когда в развитых странах Запада были чётко сформулированы приоритеты и стратегия развития, в СССР и в России правящая элита занималась идеологическими и политическими шараханьями, сопровождаемая пустословием «интеллектуалов» из внутрисистемной оппозиции в КПСС.
Неслучайно поэтому, что с конца 80-х годов развитие СССР/России шло стремительно по нисходящей, а Запада – по восходящей. Неправильный выбор идеологии как системы мер стратегического планирования и стратегии предопределил развал СССР и деградацию России. Ошибка (в теории) была исправлена только в 2021 г. с принятием Стратегии национальной безопасности. Эта ошибка усугубилась многочисленными наслоениями прошлого, прежде всего механизма реализации и тех конкретных представителей правящей элиты, которые должны были это сделать. На смену советско-партийной правящей элите пришёл круг случайных (с точки зрения политики и политической идеологии), бессистемных последователей западной либеральной школы, точнее, её упрощённо-примитивного заимствованного варианта.
Можно, конечно, считать, что создание хаоса и было стратегией Горбачёва по ликвидации коммунистической идеологии и системы управления, а стратегия хаоса в развале СССР – стратегией Ельцина и его окружения, но это признание скорее констатация того, что уже произошло, а не того, что ими планировалось.
В любом случае остаётся фактом, который стоит просто признать: с начала 80-х годов шло систематическое наступление и разрушение институтов государства, прежде всего силовых – сначала МВД (когда за штаты было выведено более 200 тыс. профессионалов), затем с середины 80-х годов дискредитация КГБ и сознательный развал его основных управлений, а затем – армии и флота СССР и его судебной системы, вплоть до ликвидации прокуратуры.
Эти институты до настоящего времени так полностью и не восстановлены. СВО просто отчётливо показала все те ошибки, которые были сделаны с конца 80-х годов, начиная с отрицания афганского опыта в военном деле, отсутствия системы национальной безопасности и контроля над иностранными институтами гражданского общества.
Переворот 1991 г., развал СССР и демонтаж институтов государства и последовавшие за ним силовые изменения в обществе, государстве и экономике стали естественными предпосылками для нового переворота 1993 г., который закрепил смену власти и приход к управлению государством случайных людей, не имеющих (как и Горбачёв) ни идеи, ни стратегии.
Эта ситуация сохранилась вплоть до 2000 г., когда к власти пришёл В.В. Путин, который осторожно стал менять правящую элиту и политический курс страны. Этот процесс, получивший новый толчок после начала СВО, продолжается в настоящее время. Надо напомнить, что президент в 2000 г. фактически не контролировал ни правительства Касьянова, ни регионы (даже после создания полпредств), ни СМИ, ни экономику, ни общество. Государственные институты представляли жалкое зрелище, когда, например, Северо-Кавказский военный округ (где насчитывалось более 350 тыс. военнослужащих) не смог обеспечит группировку для КТО в 50 тыс. чел.
В этих тяжелейших реальных условиях в России стала формироваться стратегия государства, что нашло номинальное выражение в появлении элементов долгосрочного стратегического планирования (концепций социально-экономического развития и национальной безопасности только в конце первого десятилетия нового века)[4]. Эти нормативные документы, как и последующие концепции и доктрины, не имели, однако ни системного представления, ни чётко сформулированных целей, ни механизмов реализации. Поэтому, строго говоря, сколько-нибудь оформленной политико-идеологически стратегии развития страны и безопасности государства вплоть до июля 2021 г. Так и не появилось.
Стратегия национальной безопасности 2021 г.[5] стала первым системным документом стратегического планирования, который так и не был свободным от многих ошибок предыдущих концепций, а главное – не превратился из декларации в документ политического и экономического управления и механизм реализации стратегического планирования. Прежде всего в заявленном в Стратегии главном национальном приоритете – качестве и уровне развития человеческого потенциала[6], который так и не стал таковым на практике.
Период 2022–2024 гг. – это период практической реализации идеи Стратегии в условиях СВО без системного обоснования и научного обеспечения. Это выразилось как в политико-идеологических шараханьях от либерализма к национализму, так и медленном продвижении от глобализма к автаркии в экономике, попытках сочетания мер, которые, в принципе, противоречат друг другу.
Например, запретительной ставки ЦБ и стимулирования развития обрабатывающей промышленности.
Начавшаяся СВО и последующие напряжённые усилия сказались на заявленных темпах развития НЧК в Стратегии, но проблема, как оказалось, не в этом. В качестве главной (и единственной) национальной идеи Стратегии была сформулирована идея патриотизма, которая стала развиваться и обосновываться намного позже и только частью правящей элиты. Другая её часть, которая на протяжении десятилетий игнорировала интересы государства, осталась во власти, принимая важнейшие решения, т. е. фактически занималась нейтрализацией главной идеи стратегии. Ещё хуже – эта часть продолжала заниматься подготовкой той части общества, которая ориентируется на глобализм и антинациональные цели и институты, оставаясь во власти и даже руководя важнейшими институтами.
Опыт СССР и КПСС сегодня очень важен: советская система с рождения опиралась на идеологическое освящение своего существования, на идеологизацию общества и народа. Её лидеры служили определённой доктрине, что не исключало, конечно, личных амбиций и интересов. По мере старения и бюрократизации системы, действовавшей, как и партия, в бесконкурентной среде, бюрократизировалась и идеология, уступая место прагматизму без границ. «Живая душа идеологии выхолащивалась, оставалась лишь оболочка. Идеология становилась маской, скрывавшей безыдейность и судорожное цепляние за власть. Происходила деидеологизация руководства и кадров в целом»[7]. Сейчас именно это и происходит в идеологии части правящей элиты России, составляющей по факту большинство, потому что именно эта часть сформировалась в безыдейные 90-е и нулевые.
К сожалению, многое из негативного последнего опыта КПСС воспроизводится сегодня. Примерно то же самое происходит в государственном управлении, когда фактический развал КПСС означал и ликвидацию единой государственной системы управления, которая окончательно сформировалась при Л.И. Брежневе: костяк Политбюро составляли не просто его члены, но и руководители основных государственных институтов – Совета Министров и аппарата правительства, КГБ, Минобороны и МИД.
Именно они в узком составе принимали в декабре 1979 г. решение о вводе войск в Афганистан. Примечательно, что к этому не были допущены даже те, кто формально имел на это полное право – члены ЦК, руководители среднего звена в ЦК и соответствующих органах власти.
Вторая половина 80-х годов стала периодом полной деградации и дезориентации советских и партийных чиновников, которые откровенно признавали, что не знают, куда надо «выгребать». Такая дезориентация и дезорганизация продолжалась все последующие годы, но на разных этапах отличалась своими особенностями.
Если на первом, горбачёвском, никто вообще не заморачивался стратегией и идеологией, потому что Горбачёв и Яковлев открыто дезавуировали и первое, и второе, деидеологизировав идеологию, то на втором, «демократическом», этапе идеологию, как и стратегию развития, просто заимствовали у Запада: либо как Козырев, либо как Ельцин, когда идеологией стало сохранение личной власти Ельцина и его окружения.
Приход В.В. Путина к власти в реальности означал получение им от прежней правящей элиты остатков власти, разрушенной экономики, общества и государства, не имея никаких существенных перспектив для быстрого восстановления государственных институтов.
Поэтому фраза В.В. Путина «утопить в сортире», прозвучавшая ещё до начала его президентства, означала заявление о возвращении в Россию государства, которое всегда исторически ассоциировалось с центральной властью.
Только после вступления в новый президентский срок (май 2024 г.) В.В. Путиным была заявлена идеологическая платформа, сформулированная в его первом указе: «В целях обеспечения устойчивого экономического и социального развития Российской Федерации, укрепления государственного, культурно-ценностного и экономического суверенитета, увеличения численности населения страны и повышения уровня жизни граждан, основываясь на традиционных российских духовнонравственных ценностях и принципах патриотизма, приоритета человека, социальной справедливости и равенства возможностей...»[8].
Автор: А.И. Подберезкин
>>Часть II<<
>>Часть III<<
Статья была опубликована в журнале "Обозреватель - Observer" № 1 (408) за 2025г.
[1] Мартынов Е.И. Политика и стратегия. М.: Финансовый контроль, 2003. С. 15. – 448 с
[2] Мартынов Е.И. – генерал-лейтенант Русской императорской армии и командир РККА, преподаватель, видный военный теоретик. Автор работы «Политика и стратегия» и других работ по военной теории
и стратегии.
[3] Энергичные, но непоследовательные и эклектичные шаги Ю.В. Андропова по «улучшению» социализма в итоге ни к чему не привели, просто доказав необходимость движения и развития, но не продемонстрировав каких-либо результатов. Можно только предположить, что задуманные им реформы и ускорение
НТП (использованные позже Горбачёвым) могли дать результаты в рамках социалистической парадигмы
[4] Выступление в феврале 2007 г. В.В. Путина в Мюнхене – достаточно аккуратное и даже осторожное – было воспринято на Западе как вызов (впрочем, малообоснованный с точки зрения реального
положения России)
[5] Указ Президента РФ № 400 от 2 июля 2021 г. «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // URL: https://cdnimg.rg.ru/pril/article/212/57/79/0001202107030001.pdf
[6] Уровень развития НЧК и его институтов – набор критериев (субъективных и объективных), которые определяются количественными (демографическими, душевым доходом, продолжительностью
жизни и образования) и качественными показателями, принимаемыми в качестве решающих для определения успеха национального развития.
[7] Брутенц К. Тридцать лет на Старой площади. М.: Международные отношения, 1998. – 604 с.
[8] Указ Президента РФ 7 мая 2024 г. «О национальных целях развития Российской Федерации до
2030 года и на перспективу до 2036 года» // URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73986