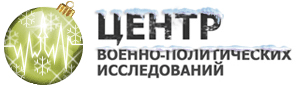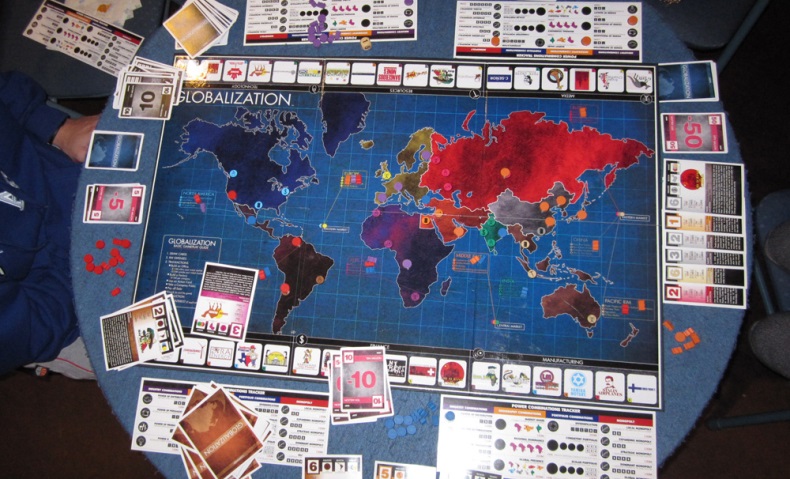
Политика – искусство предсказать события, которые произойдут завтра, через неделю, через месяц и через год, а потом убедительно объяснить, почему прогноз не сбылся
У. Черчилль
Для оценки и прогноза развития ВПО, прежде всего, в силу огромного количества факторов и тенденций, формирующих МО и ВПО, исключительно важное значение имеет самое общее представление, модель МО[1] и ВПО и процесс моделирования ВПО[2] посредством развития конкретных сценариев ВПО и их вариантов на основе дедукции формирования логических моделей таких сценариев.
Это открывает широкие возможности использования в качестве моделей сценариев ВПО и СО программ для цифровых ЭВМ, «языки» которых можно рассматривать как «универсальные моделирующие системы». То же, конечно, относится и к обычным (естественным) языкам, причём и по отношению к языковым моделям претензии на их непременный изоморфизм[3] описываемым ситуациям оказываются несостоятельными и ненужными. К тому же предварительный учёт всех подлежащих «моделированию» параметров, нужный для буквального понимания термина «М.» введённого каким-либо точным определением, часто невозможен (что и обусловливает, кстати, потребность в моделировании), в силу чего особенно плодотворным опять-таки оказывается расширительное понимание термина «М.», основывающееся на интуитивных представлениях о «моделировании». Это относится ко всякого рода «вероятностным» М. обучения (см. также Программированное обучение), «М. поведения» в психологии, к типичным для кибернетики М. самоорганизующихся (самонастраивающихся) систем.
Основы теоретического и методологического подхода к исследованию состояния, а тем более прогноза ВПО, находятся в состоянии разработки. Более того, можно сказать, что такие работы находятся в самой начальной стадии, как показывает опыт долгосрочного планирования в России, в частности, в области военных НИОКР и Гособоронзаказа[4]. Даже само понятие «военно-политическая обстановка», как справедливо отмечает исследователь этой проблемы В.А. Махонин, трактуется часто по-разному. На мой взгляд, его определение наиболее точно отражает реальность: «Военно-политическая обстановка, – пишет В.А. Махонин, – представляет собой разновидность обстановки, которая несёт в себе элементы политических средств и средств вооруженного насилия», где «главным видовым признаком ….является наличие военно-политических субъектов, которые формируют военно-политические отношения, определенное состояние которых и рассматривается как ВПО»[5].
Представляется, однако, что на отношения между субъектами ВПО и на сами субъекты и акторы огромное влияние оказывают и другие факторы – мировые, региональные, а иногда и национальные тенденции, без учета которых представление о ВПО и прогноз развития будет невозможным. Так, например, экологическая обстановка, в частности, потепление в Арктике, безусловно влияют как на создание ВВСТ, так и на политику государств, причем не только арктических, но и далеких географически от этого региона. Поэтому анализ ВПО в работе существенно расширен – это анализ не только многочисленных субъектов и акторов и отношений между ними, но и анализ тенденций самого широкого спектра, участвующих в формировании политической, экономической и иной жизни всего мирового сообщества.
Таким образом, методологически, предметом исследования становится широкий спектр субъектов, акторов, ведущих тенденций и отношений между ними, причем в динамике потому, что обстановка сама по себе предполагает изменение состояния как субъектов, так и отношений. Поэтому самое лучшее методологическое отношение к анализу – это отношение к состоянию ВПО в динамике, т. е. как сценариям развития такого состояния. Более того, к различным вариантам одного или нескольких сценариев.
Таким образом, в основу методологического подхода положен метод сценарного прогнозирования. Причем максимально обосновывая логическое развитие последовательности таких сценариев. Так, в целом, например, сценарии развития международной обстановки (МО) – рассматриваются в качестве относительно детального плана (проекта), существующего в виде документа или набора логически последовательных идей по поводу краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных политических (как правило в документах) и иных тенденций в развитии и взаимодействии субъектов, факторов и акторов, формирующих международную обстановку.
Как правило, такие сценарии описаны в самом общем виде в качестве оценки МО и ВПО в Стратегии национальной безопасности, Военной доктрине или в Концепции внешней политики[6]. Так, в частности, в Стратегии национальной безопасности состояние МО характеризуется следующим образом: «Конкуренция между государствами всё в большей степени охватывает ценности и модели общественного развития, человеческий, научный и технологический потенциалы… В борьбе за влияние на международной арене задействован весь спектр политических, финансово-экономических и информационных инструментов. Всё активнее используется потенциал специальных служб»[7].
Более детальные сценарии и их наиболее вероятные варианты существуют не только в оперативных управлениях генеральных штабов, но и в органах политического, экономического и иного управления государств. От их точности и степени реализации во многом зависит эффективность государственного управления. Так, при М. Горбачеве и Б. Ельцине очевидно игнорировались эти потребности, что привело к хаосу в управлении страной, её развалу и деградации. Восстановление государственного управления и экономики потребовало возвращения к стратегическому планированию и методам оценки и прогноза развития по тем или иным сценариям. К сожалению, в силу целого ряда причин эта политика всё еще оказывается не эффективной.
Такие сценарии развития МО и ВПО, как и их долгосрочные прогнозы, безусловно, есть в большинстве стран потому, что без их использования невозможно сколько-нибудь обоснованное стратегическое планирование[8] (хотя в 2008 году при подготовке стратегического прогноза и концепции социально-экономического развития России в МЭРе без этого обошлись). Впрочем, и позже все наши концепции и стратегии, принимавшиеся в России в 2008–2020 годы, учитывали влияние внешних факторов в минимальной степени (как правило, только с точки зрения возможной цены на углеводороды), что, безусловно, не могло ни отразиться, как минимум, с 2014 года после введения санкций против России. При разработке Гособоронзаказа такие оценки и прогнозы развития ВПО не просто обязательны, но и должны лежать в основе любых систем исходных данных.
Подобные оценки и прогнозы регулярно делаются во всех странах с разным успехом. И, уж, во всяком случае в оперативных управлениях генеральных штабов и в органах планирования ОПК[9]. Таким образом, долгосрочные сценарии и планы не просто существуют, но и – учитывая фактор времени для подготовки – неизбежно в какой-то степени реализуются. Если есть стратегический план, сценарий, то, как минимум, он должен быть реализован в той или иной степени. А это, в свою очередь, означает, что будущее рождается сегодня. Только его надо увидеть. Или захотеть увидеть. В этих целях обычно используются позитивный и – реже – нормативный анализ[10], которые традиционно применяются в таких случаях. Но применительно к развитию МО и ВПО используется, прежде всего, логика и дедукция построения конкретного сценария (ещё лучше – конкретного варианта такого сценария) развития МО и ВПО. Как правило, в этом случае используется либо дедуктивный, либо индуктивные метод прогноза. В нашей работе сначала применяется дедуктивный анализ и прогноз, на основе которого выстраивается сценарий развития МО и его варианты для ВПО, а затем индуктивный, когда просчитанные сценарии и их варианты уточняются, корректируются (или даже меняются) в зависимости от конкретной информации или изменения тех или иных условий формирования МО и ВПО.
«Просто» прогнозы, как правило, не обязывают к каким-то действиям и не носят нормативный характер. Так, например, в мае 2020 года различными организациями было сделано немало прогнозов развития безработицы или падения ВВП в связи с масштабными мерами по борьбе с эпидемией. В частности, считалось, что число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, а при благоприятном сценарии оно составит 6–7%, говорилось в исследовании Boston Consulting Group (BCG).
По расчетам экспертов, количество потерявших работу в стране может увеличиться с докризисных 4,6% до 6–7% в случае наиболее благоприятного сценария «Отскок», до 8–10% при базовом сценарии «Тяни-толкай» и до 12–15%, с ростом числа безработных на 7,8 млн в абсолютном выражении, если кризис пойдет по сценарию «Критический спад».
Другой вариант, обнародованный в то же время: как считал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, когда безработица на фоне коронавируса может подскочить до 7–8%, в худшем варианте – до 10%. Наиболее вероятный сценарий «Тяни-толкай» предполагает, как считают аналитики BCG, относительно умеренный уровень сокращений: на 11–16% в сфере услуг, 7–10% в торговле, 6–10% в строительстве и недвижимости и 5–10% в промышленности.
В случае реализации самого жесткого сценария «Критический спад» под сокращения могут попасть до четверти занятых в торговле, сфере услуг, строительстве и недвижимости. «Только при этом сценарии могут пострадать и такие отрасли, как сельское хозяйство, телекоммуникации, нефтегазовая, металлургия и горная промышленность, транспорт и логистика, финансовый сектор, здесь сокращения составили бы 4–6%», – считают в BCG.
Как видим из перечисленных примеров, в которых объектом прогноза выступала оценка уровня будущей безработицы в России, разброс таких предположений чрезвычайно высок – от 6% до 15%, что во многом их обесценивает, а некоторые предположения (до 25%) делают такие прогнозы катастрофическими. Это говорит только о том, что практически отсутствует обоснованная рекомендательная часть прогноза, которая и является главной целью любого нормативного прогноза.
Таким образом, «простые» и «традиционные» – позитивные и нормативные прогнозы[11] (которые в самом общем виде описывают возможное и желаемое состояние объекта) – в целом малоэффективны с практической точки зрения. В интересах прогноза развития конкретных вариантов сценария МО и ВПО – наиболее прагматичными и практически «рабочими», вариантами прогноза являются сценарные прогнозы[12], основанные на дедуктивном построении логических сценариев и индуктивной корректировке этих сценариев.
Важно отметить, что оба эти метода позволяют решать и оба типа прогнозных задач: построение нормативного и поискового сценарного прогноза. Таким образом, на стадии выбора метода стратегического прогноза у нас имеется изначально четыре варианта, которые будут использоваться в работе:
– создание позитивного сценарного прогноза дедуктивным методом;
– создание нормативного сценарного прогноза дедуктивным методом;
– создание позитивного сценарного прогноза индуктивным методом;
– создание нормативного сценарного прогноза индуктивным методом.
Я предлагаю использовать изначально первый вариант – создание поискового сценарного прогноза дедуктивным методом, который позже будет уточнен с помощью метода сценарного прогноза индуктивным способом. Иными словами, используя логику, дедукцию и опыт, интуицию, автор в конечном счёте предлагает единственный, на его взгляд, наиболее вероятный сценарий развития ВПО в его нескольких конкретных вариантах, вероятность реализации которых будет зависеть от множества не известных до настоящего времени причин как субъективного, так и объективного порядка. В любом случае автор берёт на себя смелость прогноза конкретного варианта(ов) развития вполне конкретного сценария развития ВПО на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Позже, в другой части работы, будет уточнятся этот сценарий в одно из наиболее вероятных его вариантов с помощью массива новой информации.
В этой работе важна логическая последовательность, которая заключается в том, что на основе самого общего анализа и прогноза развития человечества и отношений между крупнейшими субъектами (прежде всего, ЛЧЦ) выстраиваются сценарии развития МО, из которых выбираются наиболее вероятные сценарии и их варианты. И только потом, на основе такого варианта МО оценивается вероятность развития того или иного сценария ВПО и его варианта.
На основе предложенных сценариев развития МО будет выбран именно наиболее вероятный сценарий и его вариант с учетом неоднородности воздействия различных факторов[13]. Возможные сценарии и их варианты, таким образом, отделяются от наиболее вероятного(ых). Прогнозные сценарии позволяют заблаговременно предвидеть опасности, возникающие при неэффективном управленческом воздействии, неблагоприятном развитии военно-политической ситуации, а также в условиях возникающих форс-мажорных явлений.
Особенностью сценарного прогнозирования является возможность использования различных методов при построении сценариев, как экспертных, так и формализованных. Кроме того, использование методов сценарного прогнозирования позволяет разработать наиболее вероятные направления развития ситуации, например пессимистический, реалистический и оптимистический сценарии с построением комплекса соответствующих управленческих действий, направленных на стратегическое развитие, когда это представляется возможным (благоприятные макроэкономическая и природно-климатическая обстановки) и свести ожидаемые потери к минимуму в тех случаях, когда они неизбежны (форс-мажорные ситуации). Зачастую прогнозные сценарии создаются по предельным позициям факторов прогнозного окружения, тем самым моделируя состояние управляемой системы в условиях экстремальных изменений внешней среды.
Поэтому огромное значение, на мой взгляд, как уже говорилось, имеет широко используемый в пособии метод дедукции[14] – построения самой общей (авторской) концепции на основе больших объемов информации, опыта и интуиции, методов экспертных оценок военно-политической обстановки[15] и некоторых концепций и моделей, которые позволяют объединить огромное количество факторов и тенденций в некую единую логически обоснованную систему.
Этот авторский метод применительно к анализу и прогнозу[16] развития того или иного сценария ВПО – достаточно субъективен. Более того, он и не может не быть субъективным. Этой проблеме, кстати, в работе уделяется отдельной внимание. На мой взгляд, субъективизм в политике и особенно в военном деле неизбежен. Но это не главная его проблема: если субъективизм профессионала и его богатая интуиция работают в интересах нации, то вероятность ошибки, на мой взгляд, минимальна.
Субъективизм в политике опасен, когда он становится результатом преувеличенного значения личных и групповых интересов. Но сразу же оговорюсь, что современное состояние экспертизы в России, к сожалению, далеко от идеала – «реформы» военной и политической науки во многом привели к её кризису и отразился не только на качестве субъективно-интуитивных оценок и прогнозов, но и качестве собственно самих личностей – политиков и экспертов. Тем не менее он вполне совместим с общепринятыми методами экстраполяции ВПО[17], статистическими методами и различными методами описания МО и ВПО.
В процессе разработки этой системы происходит её конкретизация, уточнение, корректировки и исправление, когда некие эмпирические данные и идеи этого требуют, т. е. наступает второй этап анализа, основанный на методе индукции[18]. Именно таким образом построена структура всего пособия: изначально в первой части сформулирована концепция развития МО и её части – ВПО в мире и её прогноз, – вычленены основные особенности и раскрыты наиболее характерные черты. Во второй части эта концепция рассмотрена через призму развития отдельных центров силы, ЛЧЦ и военно-политических коалиций. При этом я старался не игнорировать те противоречия, которые возникали при сопоставлении с результатами исследования при помощи дедукции базового сценария и его конкретного варианта развития ВПО.
В качестве примера метода индукции можно привести оценку деятельности корпорации Концерна ВКО «Алмаз-Антей» американским изданием «Defense News» в 2020 году по итогам 2019 года по сравнению с итогами 2018 года. В соответствии с рейтингом Концерн выпал из десятки лидеров мировых военных производителей, сократив доходы на 5%[19]. В рейтинг крупнейших в мире военно-промышленных компаний за 2020 год, каждые 12 месяцев публикуемый американским изданием Defense News, вошли, как и год назад, только две российские компании – концерн «Алмаз-Антей» (производитель зенитных ракетных систем С-400 «Триумф») и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (разработчик гиперзвуковых ракет «Циркон»)[20]. По сравнению с предыдущим годом позиции российского военно-промышленного комплекса (ВПК) в рейтинге упали. Так, «Алмаз-Антей» (выручка от реализации продукции военного назначения в размере 9,1916 млрд долларов, падение 5%) опустился на 17-е место с 15-го, а «Тактическое ракетное вооружение» (3,4749 млрд, минус 3%) заняло 35-е место вместо 32-го. Согласно рейтингу, на продукцию военного назначения приходится 95% общих доходов производителя С-400 «Триумф» и 98 процентов – разработчика «Циркона».
Как указывается в рейтинге, первая пятерка принадлежит американским компаниям Lockheed Martin (56,606 млрд, рост 12%), Boeing (34,3 млрд, рост 1%), General Dynamics (29,512 млрд, плюс 7%), Northrop Grumman (28,6 млрд, рост 13%) и Raytheon (22,448 млрд, плюс 9%). Всего в списке находятся 42 американских компании. Отмечается, что по оборонной выручке Lockheed (Lockheed Martin) лидирует с 1980 года, оставаясь основным подрядчиком Пентагона. Шестое место рейтинга принадлежит китайской Aviation Industry Corporation (25,07538 млрд, рост 1%). Всего в списке Defense News присутствует восемь китайских компаний[21].
Военные доходы 100 крупнейших оборонных компаний мира растут четвертый год подряд, подталкиваемые ростом оборонных расходов США в сочетании с сильными иностранными военными продажами. Доходы от обороны в 2019 финансовом году, зафиксированные в списке 100 лучших новостей Defense News, составили $ 524 млрд, что примерно на 7% больше, чем $488 млрд в 2018 финансовом году, согласно цифрам, составленным Defense News в рамках ежегодного списка Top 100. «Самая поразительная вещь в этих данных – это годовой рост, медиана которого составляет 7%», – сказал старший научный сотрудник Атлантического совета Стивен Грундман. «Для отрасли, которую обычно считают зрелой, рост доходов, который в два раза превышает мировой ВВП, является прямо-таки спортивным»[22].
Географически американские фирмы составляли семь из топ-10 и 10 из топ-25. Совокупный оборонный доход 41 американской фирмы, входящей в топ-100, составлял более половины от общего объема оборонного дохода.
Китай в этом году имел пять фирм в топ-15 компаний против шести в прошлом году. Восемь китайских фирм вошли в топ – 100 списка в этом году, с совокупным доходом от оборонной деятельности в размере 95 млрд долл. за 19 ФГ – что на 11,7 млрд долл. меньше, чем в целом по Европе и Турции.
Китайская корпорация авиационной промышленности, которая впервые появилась вместе с другими китайскими фирмами в прошлом году, упала с № 5 до № 6, хотя ее оборонные доходы выросли на процентный пункт по сравнению с прошлым годом. China South Industries Group Corporation упала с № 11 до № 18, так как ее выручка сократилась на 26%, примерно с $12 млрд до $9 млрд. Китай, бесспорно, является оборонным гигантом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, затмевая в этом списке своих девяти соседей (исключая Россию). Их оборонные доходы в 2019 году составили 21 млрд долл. Совокупные доходы китайских фирм характеризуют страну как растущую сверхдержаву, которой она должна быть в политических и стратегических кругах, сказал Даниэль Гуре, старший вице-президент Института Лексингтона. «Несмотря на все дискуссии, которые мы вели в течение последних недель и месяцев о Китае как потенциальной угрозе и вызове, они строят все виды кораблей класса blue-water, которые отражают Военно-Морской Флот США», – сказал он. «Для страны, которая когда-то считалась Континентальной или прибрежной державой, удивительно, что они строят, и это отражается на этих компаниях».
Из Европы и Турции, союзника НАТО, в списке было 35 фирм. Совокупный оборонный доход там составлял примерно 20% от общей суммы топ-100. В список вошли семь турецких фирм, причем FNSS Savunma Sistemleri A. S. И Havelsan A. S. присоединились к списку под № 98 и № 99 соответственно[23].
Ежегодный список Топ-100 новостей обороны по большей части опирается на самоотчет компаний, многие из которых предоставляют оценки, а не окончательные данные для своих процентов обороны. Это означает, что, хотя список является отраслевым стандартом, цифры приходят с некоторым отклонением.
Исходя из этих данных, можно сделать коррективы в представления о соотношении сил ОПК России, США и Китая, в частности, о резком увеличении производства продукции военного назначения а США и Китае и относительно скромно развитии ОПК России. Концерн «Алмаз-Антей», как известно, отнюдь не страдает недозагрузкой мощностей (особенно на фоне новых заказов С-400 в Турции и Индии), а его «отставание» можно объяснить несколькими причинами, прежде всего, относительно быстрым ростом заказов ведущих предприятий ВПК США и Китая, не учетом выпуска Концерном гражданской продукции (считают, что Концерн на 100% загружен ВВСТ) и другими факторами, например, методикой подсчета, способом представления данных и пр.
В любом случае, однако, подобная информация должна учитываться и она, безусловно, полезна скорректировать оценку соотношения военно-технических потенциалов в мире, в частности, военно-промышленных предприятий. Кроме того, можно поставить и такие актуальные вопросы о масштабах финансирования НИОКР и росте промышленных мощностей в Концерне и т. д.
Индукция, как метод исследования и корректировки абстрактно-логических построений дедукции сценариев развития ВПО – обязательное условие реалистичности анализа и прогноза. На мой взгляд, это даёт возможность и потребность в анализе множества других, не учитывавшихся прежде факторов и тенденций, влияющих на формирование МО и ВПО. Так, например, несколько лет назад я предложил объединить эти факторы и тенденции в 4 основные группы, где собственно субъекты[24] МО и ВПО составляют только одну такую группу (другая группа относительно независимых участников обозначена как акторы[25]), а в целом все эти группы представляют собой некую систему, которая лежит в основе модели ВПО. Эта модель, на мой взгляд, позволяет представить себе:
– во-первых, МО – как систему отношений самых разных факторов, влияющих друг на друга в разных направлениях, как производное взаимодействие этих самых разных факторов и тенденций;
– во-вторых, вычленены 4 основные группы факторов и тенденций, которые не ограничены только основными субъектами, но и тенденциями и информационнокогнитивными характеристиками, играющими всё более важную роль в формировании МО и ВПО;
– в-третьих, дать возможность для дальнейшего расширения числа факторов, участников и тенденций, влияющих на формирование МО. Так, на формирование ВПО в Европе огромное влияние оказала внутриполитическая ситуация в Белоруссии, где собственно военные факторы сыграли не самую важную роль;
– в-четвертых, зафиксировать принципиально важное положение о политическом приоритете при формировании ВПО (МО предопределяет сценарий развития ВПО), но, вместе с тем, не игнорировать влияния силовых и военных факторов, формирующих СО в отдельных регионах, характер войн и военных конфликтов.
Подчеркну, что как количество основных групп, так и перечень и численность факторов, формирующих МО и ВПО, должны быть существенно расширены: если 1-ая группа (государства) достаточно ограничена численностью существующих государств, то 2-ая (акторы) фактически уже не ограничена потому, что численность общественных и иных негосударственных акторов уже насчитывает сотни тысяч, а число реально влияющих на формирование ВПО (например, на внутриполитическую стабильность) – десятками тысяч.
То же самое можно сказать и в отношении других групп. И не только тех, которые указаны в модели, но и тех, существование которых можно обосновать дополнительно.

Рис. 1. Основные группы факторов и тенденций, влияющих на формирование МО[26]
Как видно из предлагаемой структуры МО, представляющей основные группы факторов и тенденций[27], их взаимодействие и взаимовлияние (порой противоречивое) формирует в основном не только современное состояние МО, но и закладывает самые общие основы для формирования современных и будущих сценариев развития МО и ВПО, причем самых различных сценариев[28] и конкретных вариантов его развития, которые могут быть не известны к настоящему времени.
Таким образом, предлагаемая модель МО означает зафиксированное в конкретное время состояние взаимоотношений 4-х групп важнейших факторов, формирующих МО. Её развитие предполагает оценку возможных и наиболее вероятных сценариев в какой-то период времени, например, в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе. Практическое значение приобретает такой сценарий, когда он выражается в своем конкретном варианте. Другими словами, для практических потребностей необходим наиболее вероятный вариант развития МО и её части – ВПО, который должен быть в ещё большей степени конкретизирован оценкой состояния СО на ТВД, в регионе или районе, характера вероятных военных действий или войны.
Автор: А.И. Подберезкин
>>Полностью ознакомиться с монографией "Оценка и прогноз военно-политической обстановки"<<
[1] Модель – зд.: самое общее, достаточно абстрактное, представление о структуре, основных факторах формирования и влияния некой сложной системы, состоящей из множества взаимозависимых элементов.
[2] Моделирование ВПО – зд.: в соответствии с различными назначениями методов моделирования понятие «модель» используется не только и не столько с целью получения объяснений различных явлений, сколько для предсказания интересующих исследователя явлений. Оба эти аспекта использования М. оказываются особенно плодотворными при отказе от полной формализации этого понятия. «Объяснительная» функция М. проявляется при использовании их в педагогических целях, «предсказательная» – в эвристических (при «нащупывании» новых идей, получении «выводов по аналогии» и т. п.). При всём разнообразии этих аспектов их объединяет представление о М. прежде всего как орудии познания, т. е. как об одной из важнейших философских категорий. Для использования этого понятия во всех разнообразных аспектах на современном этапе развития науки характерно значительное расширение арсенала применяемых М.
[3] Изоморфизм – зд.: (от греч. ἴσος – равный, одинаковый и μορφή – форма) – отношение между какими-либо объектами, выражающее в некотором (уточняемом ниже) смысле тождество их структуры (строения). Понятие изоморфизма используется при характеристике отношения теории к действительности, при описании переработки информации в процессе познания, при анализе условий достоверности выводов по аналогии и т. д. Поскольку понятие структуры объекта (ВПО) предполагает его рассмотрение в виде совокупности составляющих его элементов (или, в некоторых случаях, в виде объединения его частейподмножеств), при рассмотрении изоморфизма говорят об отношении между системами, множествами к. л. элементов. Системы элементов, находящиеся в отношении изоморфизма, наз. изоморфными. Такими изоморфными структурами являются варианты одного и того же сценария развития МО или ВПО.
[4] Теоретические и методологические наработки в этой области нашли свое отражение в работе исследователей НИИ № 46 МО РФ «Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной организации Российской Федерации». М.: «Граница», 2018. 512 с.
[5] Махонин В.А. К вопросу о понятии «военно-политическая обстановка» // Военная мысль, 2011, № 4, сс. 3–10.
[6] См., например: Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., 2018, p. 3.
[7] Путин В.В. Указ № 683 от 31 декабря 2015 г. «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (Раздел 2. Ст. 13).
[8] Стратегическое планирование – зд.: процесс прогнозирования и планирования на долгосрочную перспективу, прежде всего, целеполагания и учета наиболее эффективных средств реализации.
[9] См. подробнее: Подберезкин А.И. Современная военно-промышленная политика в условиях четвертой промышленной революции / В кн.: Промышленная политика / под ред. А.С. Булатова. М.: КноРус, 2020, сс. 151–176.
[10] Позитивный анализ – зд.: анализ, который предполагает объяснение и прогнозирование явлений, как правило, в экономике, а нормативный анализ отвечает на вопрос, как должно быть.
[11] «Традиционные прогнозы» – зд.: позитивные и нормативные прогнозы – которые, по аналогии с позитивным анализом, предполагает объяснение и прогнозирование явлений, а нормативный анализ и прогноз отвечает на вопрос, как должно быть, но не всегда исходит из результатов позитивного анализа
[12] В целом, сценарное прогнозирование является одним из наиболее эффективных инструментов предвидения тенденций и вариантов развития тех или иных социально-экономических явлений. Прогнозные сценарии включают в себя прогнозные модели (которые будут предлагаться ниже), описывающие вероятные направления развития с учетом воздействия основных факторов и субъективного комплекса действий управленческого характера.
[13] Не только государств, но и акторов и тенденций, используемых во внешней политике. См.: Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., 2018, p. 3.
[14] Метод дедукции анализа и прогноза ВПО – зд. метод логических умозаключений, основанный на общем анализе МО, и, как следствие его развития, – ВПО, в результате которого выстраивается цепь рассуждений относительно наиболее вероятного конкретного варианта одного из сценариев развития ВПО (иногда СО).
[15] Метод экспертных оценок военно-политической обстановки – зд.: метод оценивая состояния текущей военно-политической обстановки на основе опыта, знаний и интуиции высококвалифицированных специалистов.
[16] Прогнозирование ВПО – зд.: процесс разработки прогноза развития факторов и тенденций, формирующих ВПО, а также возможных и вероятных взаимосвязей между ними.
[17] Метод экстраполяции военно-политической обстановки – зд.: метод прогнозирования развития военно-политической обстановки, основанный на анализе сложившейся в прошлом и настоящем закономерностей, характера и условий развития ВПО и распространения их на соответствующую перспективу прогноза (планирования) в будущем.
[18] Метод индукции анализа и прогноза ВПО – зд.: метод логических рассуждений, основанный на анализе эмпирических данных и экспертных оценках, с помощью которого вносятся коррективы и другие изменения в разработанный наиболее вероятный из возможных сценарий и его вариант развития ВПО (иногда СО).
[19] В США указали на место российского ВПК в мире. 18 августа 2020 / ТАСС 18.08.2020.
[20] Gould Joe. Arms Trade momentum: Globalisation and US Defense Spending drive drfense tndustry growth. Defense News. 17.08.2020 / www.defensenews.17/08/2020/
[21] Ibidem.
[22] Ibidem.
[23] Ibidem.
[24] Субъекты МО и ВПО –зд.: суверенные с точки зрения международного права государства, способные к проведению самостоятельной внешней и военной политике.
[25] Акторы МО и ВПО – легитимные и нелегитимные негосударственные организации и структуры, участвующие в формировании МО и ВПО.
[26] См., например: Подберёзкин А.И., Соколенко В.Г., Цырендоржиев С.Р. Современная международная обстановка: цивилизации, идеологии, элиты. М.: МГИМО-Университет, 2015. 464 с.
[27] В том числе и таких важных, как развитие человеческого капитала и его институтов, которые нередко игнорируются в современном анализе. См. подробнее: Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопасность. М.: Прометей, 2020. 610 с.
[28] Сценарий развития военно-политической обстановки — зд.: порядок перехода ВПО из одного состояния в другое под воздействием совокупности факторов, определяющих социально-политическое и военно-техническое, а также иное развитие субъектов и тенденций в развитии ВПО.