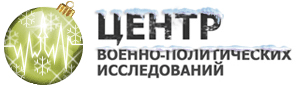1 февраля 2021 года в Юго-Восточной Азии, в Мьянме, произошел «полу-переворот» с участием военных, который, на мой взгляд, свидетельствует, что смена парадигмы на силовую гибридную форму защиты своей системы является не только чисто западным явлением[1].
Отстранение от власти госсоветника До Аун Сан Су Чжи и её команды стало итогом затяжного политического кризиса, охватившего страну после очередных парламентских выборов, прошедших в ноябре 2020 г. По данным союзного избиркома, на этих выборах Национальная лига за демократию подтвердила доверие избирателей, вновь набрав большинство голосов. Оппозиция не признала победу правящей партии, утверждая, что при проведении выборов были допущены грубые нарушения и фальсификации. Финальным аргументом оппозиционных сил, пользующихся поддержкой военного истеблишмента, стала апелляция к 417-й и 418-й статьям Конституции 2008 года, предусматривающим введение президентом (или лицом, его замещающим, таким, как первый вице-президент) чрезвычайного положения и передачу всей полноты власти верховному главнокомандующему.
Таким образом, формально сегодняшние события в Мьянме нельзя считать военным переворотом, поскольку они разворачиваются в правовом поле, определённом действующей конституцией. Однако, по сути, арест высших должностных лиц и принудительная отмена результатов выборов выходят за рамки демократического процесса в общепринятом понимании, и могут иметь далеко идущие политические последствия.
С точки зрения последствий изменений парадигм мирового развития для ВПО и СО можно говорить, на мой взгляд, следующее:
Во-первых, исчезает граница между «демократическими» и недемократическими средствами силовой политики, которую искусственно создавали в последней трети прошлого века как альтернативу военно-силовыми средствам сохранения контроля СССР над ситуацией в странах Социалистического содружества и СССР под названием «доктрины Брежнева».
Следует откровенно признать, что такой отказ сначала в Польше, а затем и в других странах привёл к распаду ОВД и СССР, поражению режима Афганистана и в ряде других государств мира. Фактически произошёл односторонний отказ СССР от защиты, созданной им системы МО, которая в полной мере оказалась под влиянием западной силовой политики (внешне не связанной с военной силой).
Во-вторых, когда после разрушения «советского мира» возник Мир по-американски, то в нем уже использовались все средства силовой политики — как силовые не военные, так и силовые, военные (в Югославии, Румынии, Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии и т. д). Более того, в отношении собственной внутренней оппозиции стали применяться средства военного насилия, что наглядно показали столкновения во Франции, Германии и США в 2020–2021 годах.
Наконец, в-третьих, в отношении бывшего СССР и постсоветских республик была принята та же стратегия гибридного военно-силового давления. Сначала на Северном Кавказе, затем в Средней Азии, а позже и на Украине, и в Белоруссии.
Смена парадигм мирового развития отражается непосредственно на формировании сценариев ВПО и СО самым негативным образом, милитаризируя средства и меры использования силовых средств.
Прежде всего, с точки зрения максимально широкого использования тех социальных слоев и групп, которые относятся к «креативному классу». Этот процесс намного глубже, чем даже изменения, связанные с НТР потому, что охватывает не только области технологий и экономики, но и всю социально-политическую область, прежде всего, вытекающие из нарождения нового класса — «креативного» или творческого класса, — развитие которого является в настоящее время выступает решающим элементом в развитии экономики, общества и политики[2]. Там, где удалось максимально интенсифицировать этот процесс, как в Китае и Индии, а также в США, где сотни миллионов человек превратились в представителей «творческого класса», там за последние 30 лет удалось добиться наиболее выдающихся успехов в экономике, науке и политике. Там удалось сформировать новые цивилизационные центры силы. Но не только. Там же сформированы новые системы ценностей и новые интересы. И там же возникли новые военные центры мощи и влияния, а именно — в США, Китае и Индии. В некоторой степени и в других странах, где этот процесс стремительно набирает силу.
Таким образом, главные условия формирования новых парадигм — системы ценностей и новые социальные группы, их институты — уже созданы и находят свою конкретную политическую самоидентификацию и самореализацию в самых различных институтах, которые пока что не поддаются осмыслению. Ясно, например, что движение «Чёрные жизни значат многое» — не просто радикально этническое движение, но в нём концентрируется и социальная несистемная мощь. Она формирует совершенно новые условия внутриполитической стабильности в США и ряде других стран.
Формирование новых политических парадигм происходит под влиянием самых разных обстоятельств, но именно новые парадигм создают и новые средства силового противоборства — от социальных сетей до кибернетических средств ведения войны.
Именно этот процесс наблюдается с начала второго десятилетия нового века в международной обстановке, когда радикально меняются все представления о её структуре, основных факторах формирования и тенденциях, средствах и способах политики и многом другом. Соответственно происходит и изменение всех прежних способов оценки и прогноза состояния МО и, как следствие, ВПО, методик и способов формирования эффективной политики безопасности, требуемых новых инструментов, «измеряющих цену политических решений в количественном и даже денежном»[3], но, прежде всего, качественном (политическом) выражении[4].
К сожалению, научная мысль — политическая и военная — в современной России ещё только приблизилась к пониманию этого нового качества состояния МО и ВПО, выраженного в смене парадигм.
Дискуссии в этой области носят редкий и формальный характер, как правило, очень далекий от реальной политики, хотя перед политиками и учеными России стоят проблемы огромного политического, даже цивилизационного, значения. В частности, например, исследователи ЦНИИ № 46 МО РФ выделяют следующие группы факторов, которые говорят о необходимости практически полной переоценки состояния и прогноза развития МО и политики России только в военно-технической области обеспечения национальной безопасности:
1. Военно-политического и стратегического характера военных угроз… на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
2. Военно-политический характер невоенных угроз….
3. Прогноз изменения боевых возможностей ВС РФ….
4. Возможностей государства по техническому оснащению ВС РФ…
5. Возможностей государства по ресурсному обеспечению потребностей строительства ВС РФ[5].
Таким образом, в развитии МО произошли и в ещё большей степени произойдут в период 2020–2035 годов решительные изменения, прогнозировать которые с точки зрения последствий для ВПО и СО практически невозможно, за исключение того, что эти изменения будут отражать рост дальнейшей эскалации военно-силовой политики и ограниченность сотрудничества, т. е. усиление военно-силового противоборства. Вопрос в том, какие именно будут эти изменения, в каких областях и как они отразятся на конкретном состоянии СО, ведения войн и развития военных конфликтов, как в конечном счете они повлияют на формирование ВПО и МО в мире.
Авторы: А.И. Подберезкин, О.Е. Родионов
[1] Ефремова К. Военный переворот в Мьянме: причины и последствия / Сайт МГИМО МИД РФ. 01.02.2021 / www.mgimo.ru/01/02/2021
[2] Флорила Р. Креативный класс: люди, которые меняю будущее. М.: «Классика XXI», 2005, 421 с.
[3] См. подробнее: Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной организации Российской Федерации. М.: ИД «Граница», 2018, с. 23.
[4] Примечательно, что именно на этот политический аспект (качественных изменений) менее всего обращается внимание в области безопасности и военного строительства потому, что традиционные оценки исходят (как и в НИИ № 46 МО) из количественных оценок потенциалов и угроз. Между тем, «переходный период» — период качественных изменений, когда количественные (и денежные) оценки уже не играют главной роли.
[5] Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной организации Российской Федерации. М.: ИД «Граница», 2018, с. 23.