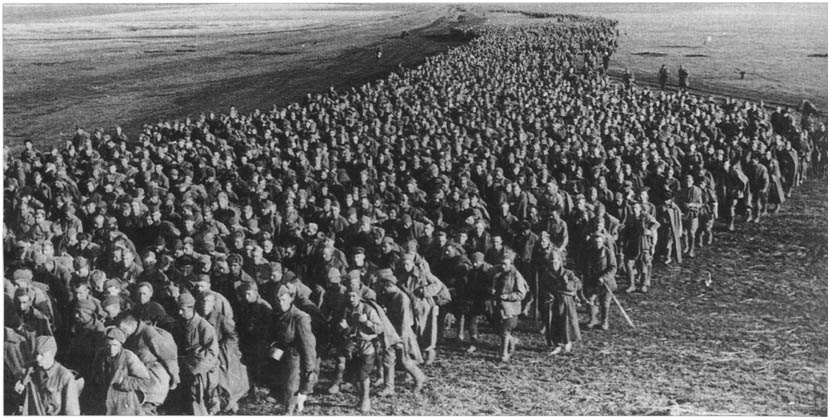Спецпроект СТАЛИНГРАД
СТАЛИНГРАД
Данная страница является титульной для целой серии статей, которую впоследствии возможно удастся издать в виде книги. Соавтором может стать любой желающий, достаточно зарегистрироваться на сайте и сообщить в редакцию портала Центра военно-политических исследований о своем намерении.
- Блог пользователя an2k
- 7778 просмотров
1942-й — переломный. Борьба за стратегическую инициативу: нереализованные надежды
Эхо Московской битвы: стратегическое положение и планы сторон весной 1942 г.
Первая решающая битва Великой Отечественной войны — битва за Москву — во многом предопределила весь дальнейший характер и течение глобального мирового конфликта. Германским войскам не удалось взять ключевой пункт своей кампании на Востоке и тем самым поставить Советский Союз на колени. Красная Армия своей героической обороной сорвала гитлеровский блицкриг и стяжала славу быть главной надеждой всей оккупированной Европы на освобождение от коричневой чумы. Начавшееся в декабре 1941 г. контрнаступление РККА подвело ранее непобедимый вермахт к первому тяжелейшему кризису. В какой-то момент кремлевскому руководству показалось, что в войне произошел окончательный перелом, и инициатива навсегда перешла к советской стороне. Но до полной победы было еще далеко. Германия смогла восполнить свои ресурсы за счет собственного потенциала и возможностей подчиненных ей стран. В то же время, в ходе Московской битвы Красная Армия понесла огромные потери. Только в период контрнаступления они превысили 370 тыс. человек (убитыми, ранеными и пропавшими без вести). На начало 1942 г. пришелся и наибольший спад военного производства СССР. Сотни эвакуированных заводов только начинали налаживать выпуск военной техники и вооружения. Беспощадный натиск германской армии был остановлен и опрокинут вспять железной волей советского народа, но предыдущие потери, дефицит материальных средств и необходимого опыта в проведении широких наступательных операций не позволили советскому командованию довести наметившийся перелом до логического завершения. Немцам удалось спасти свой фронт от развала.
Действительно, советское военное руководство не могло пока организовать полноценного оснащения и обучения пехотных, танковых, артиллерийских, авиационных и др. частей, формируемых для отправки на фронт. Не хватало опытных командиров, особенно младшего и среднего звена. Уже закаленные в боях соединения получали лишь краткосрочный отдых. Промышленные возможности не позволяли наладить снабжение войск даже самым необходимым вооружением и боеприпасами. В связи с этим Ставка ВГК своей директивой от 29 февраля 1942 г. вынуждена была установить предельный лимит расходования боеприпасов на март месяц «сверх возимых запасов» в чрезвычайно малых объемах: патроны 7,62 мм и 12,7 мм — 2 боекомплекта; гранаты — 1 б/к; мины всех калибров — 2 б/к; выстрелы 76 мм орудий — 2 б/k [1]. Для большей ясности отметим, что такое количество боеприпасов в последующих наступательных операциях конца 1942–1943 гг., как правило, расходовалось советскими войсками всего за четыре–пять дней сражения.
Вполне вероятно, что успех, достигнутый немцами в обороне зимой–весной 1942 г., дал возможность некоторым высокопоставленным офицерам вермахта задуматься о целесообразности перехода к «стратегической обороне» на всем Восточном фронте[2]. Суть такой стратегии заключалась в следующем: сочетая незначительный отход и контрудары, окончательно измотать и обескровить вооруженные силы Советского Союза и заставить Москву заключить невыгодный для себя мир. Однако эта концепция не могла в то время получить развития из-за ясно выраженного желания фюрера и его ближайшего окружения осуществить наступление на Кавказ. По мнению Гитлера, германская армия летом 1942 г. должна была получить второе дыхание — теперь уже в операциях на юге России. Ему казалось, что блицкриг сорвался лишь случайно. В то же время в сознании большинства высших военных руководителей Германии срок капитуляции советской столицы лишь переносился на некоторое время.
Тем не менее, ряд высокопоставленных руководителей рейха придерживались более скептической точки зрения на дальнейший ход войны. Командовавший в то время армией резерва генерал-полковник Ф. Фромм, учитывая создавшееся сложное положение в военной промышленности и имевший хорошее представление о наличии людских резервов Германии, должен был признать, что, продолжая эту войну, вермахт приближается к катастрофе. Министр по делам вооружений и боеприпасов доктор Фриц Тодт докладывал фюреру 29 ноября 1941 г., что окончание войны в пользу Германии возможно только на основе политического урегулирования[3].
Многие крупные военачальники и офицеры вермахта также сознавали наихудшие для Германии последствия поражения под Москвой. Интересно ретроспективное восприятие некоторыми из них событий зимы 1941–1942 г. Так, генерал Ф. Гальдер впоследствии назвал их «катастрофой» и «началом трагедии на Востоке», генерал Блюментрит — «поворотным пунктом» кампании в России, а генерал Рудольф Бамлер (бывший командир 47-го моторизованного корпуса) утверждал, что «отступление 1941–1942 гг. было исходным пунктом большого военного кризиса, от которого немецкая армия ни материально, ни морально так и не смогла оправиться»[4]. Зимой 1941–1942 г. Гитлер снял со своих постов опытных фельдмаршалов и генералов: Ф. Бока, В. Браухича, Г. Гудериана, Э. Гепнера, А. Штрауса и др. Они были довольно популярны в армии, и их отставка негативно сказалась как на руководстве боевыми действиями, так и на моральном состоянии военнослужащих вермахта.
Победа, достигнутая под Москвой, а, следовательно, и полученное Советским Союзом дополнительное время на перестройку военной экономики и подготовку пополнения по максимуму использовалось руководством Красной Армии. В советском тылу (в том числе в центральном регионе европейской России, который не был оккупирован и оставался главным поставщиком людских ресурсов для армии) готовились новые соединения. Чем больше части вермахта летом и осенью 1942 г. вязли в сражениях в донских степях, под Сталинградом, в предгорьях Главного Кавказского хребта, под Ржевом и Ленинградом, тем меньше у них становилось шансов выиграть войну.
В 1942 году война вступила в новую стадию. На стороне СССР теперь стояли не только Великобритания, но и США, образовался могущественный союз свободолюбивых народов. Одновременно мировой конфликт достиг своего наивысшего накала, и противоборствующие коалиции разворачивали на полную мощность свой военный потенциал. Исход войны теперь зависел от того, насколько грамотно смогут распорядиться своими превосходящими ресурсами союзники по антигитлеровской коалиции, и насколько успешным окажется их сопротивление блоку агрессоров, который стремился использовать для достижения победы, остающиеся стратегические козыри. Главными из них были огромные людские и материальные потери СССР в 1941 году и возможность Германии восполнить собственные потери за счет эксплуатация основной территории Европы в условиях неготовности Англии и США открыть второй фронт во Франции. Четко управляемая военная машина третьего рейха по-прежнему располагала опытными командными кадрами и могла задействовать в новом наступлении хорошо обученные соединения. Командование вермахта рассчитывало также на восстановление морального потенциала основной массы немецких солдат после неудач зимы 1941–1942 года.
Первоочередной задачей антигитлеровской коалиции было надломить силу агрессоров и повернуть войну вспять. Победа в Московской битве создала благоприятные предпосылки для нанесения Германии уничтожающего удара уже в 1942 году. Сравнение основных показателей говорило само за себя: СССР, США и Англия по своим людским ресурсам превосходили агрессоров в два раза. Военно-экономический потенциал стран антифашистской коалиции также намного превышал потенциал блока фашистских государств[5]. Подобная статистика могла греть сердце начальникам штабов армий западных союзников и служить успокаивающим средством для британского премьера У. Черчилля и американского президента Ф. Рузвельта. Однако она пока никак не облегчала положение Советского Союза, вынужденного в одиночку противостоять нацистской машине уничтожения, питавшейся за счет эксплуатации всей Европы. В начале 1942 года Германия вместе с подчиненными странами была в военном отношении значительно сильнее ослабленного СССР.
Продолжение успешного сопротивления СССР являлось главным условием достижения будущей победы всего Великого союза. Но даже после краха германского «блицкрига» британский кабинет и Белый дом сомневались в эффективности процесса восстановления боевой мощи Красной Армии. Поэтому они не спешили давать Москве какие-либо обещания относительно ее территориальных претензий, не зная, где окажутся советские войска в конце войны. В декабре 1941 г. министр иностранных дел Великобритании А. Иден отказался на переговорах со Сталиным подписывать секретный протокол к советско-английскому договору, содержащий пункты о восстановлении оккупированных войсками гитлеровской Германии и ее союзников территорий Эстонии, Латвии и Литвы, Бессарабии и Северной Буковины в государственных границах СССР, существовавших к 22 июня 1941 г. Уклонился он и от обсуждения вопроса о польско-советской и советско-финской границе[6]. Против признания советских территориальных запросов в Европе выступал в то время американский Госдепартамент, мнение которого не мог не учитывать Рузвельт, а также некоторые ближайшие помощники президента — в частности А. Гарриман[7]. Обсуждая 22 января 1942 г. с руководителем Европейского отдела внешнеполитического ведомства США Р. Атертоном американскую стратегию на советском направлении и поставки в СССР, Гарриман предупреждал, что ни при каких условиях не следует идти на компромисс с таким «оппортунистом» и «ловким дельцом», как Сталин. Он полагал, что советский лидер все еще чувствует себя «социальным изгоем» среди великих союзников. «Будет большим делом, — говорил он, — посылать ему почаще дружеские послания и повторяющиеся заверения о том, что позиция России за столом мирных переговоров будет идентична британской и американской»[8].
«Дружеские послания», конечно, были важны, но они никак не могли заменить второго фронта и скорейшего увеличения военных поставок в СССР. Как в Лондоне, так и в Вашингтоне еще сохранялись большие опасения за судьбу Восточного фронта. Не последнюю роль играли здесь данные, полученные от военных дипломатов. Новый американский военный атташе в Москве майор Дж. А. Мичела в январе 1942 г. доносил в Вашингтон, что хотя прежние данные о военном потенциале СССР (отводившие ему роль легкой жертвы нацистской Германии. — М. М.) оказались фальшивыми, все же советское производство, по его мнению, еще не скоро оправится от огромных потерь и эвакуации, в то время как месячный объем выпуска самолетов не превышал 1500 единиц[9].
Ничто не может умалить храбрость солдат Великобритании, США, Китая, английских доминионов, сил сопротивления других свободолюбивых государств, которые в начале 1942 г. вели ожесточенные оборонительные сражения в Атлантическом и на Тихом океане, в Северной Африке и в Восточной Азии с морскими, воздушными и сухопутными войсками стран оси, нанося им существенный урон. Но исход войны решался именно — на советско-германском фронте. Академик А. М. Самсонов отмечал: «В высших правительственных и военных сферах США и Англии понимали, какое решающее значение имела борьба на советско-германском фронте для судеб всей Второй мировой войны. Разрабатывая планы военных действий, руководящие деятели США и Англии базировались в первую очередь на анализе обстановки на Восточном фронте, однако исходили лишь из своих интересов. Летом 1942 г. английская разведка сообщала: „Положение на Восточном фронте таково, что можно ожидать любого исхода, и поэтому трудно сказать, какой из противников потерпит поражение“. В июне 1942 г. на происходившем в Вашингтоне совещании американских и английских начальников штабов было решено, что и английские и американские планы следует поставить в зависимость от исхода летних операций на советско-германском фронте. „Сумеют ли русские удержать фронт — в этом главное. От решения этого главного вопроса зависят наши планы на остающийся период 1942 г.“, — заявили англичане на первом же совместном заседании штаба в Вашингтоне»[10]. Вместо боевых действий на Европейском континенте союзники предпочли развернуть в 1942 году главные операции в Северной Африке, на второстепенном участке Второй мировой войны, где находились лишь незначительные силы немецких и итальянских войск.
Помощь Советскому Союзу была пока незначительной, что служило поводом для различных политических спекуляций по поводу намерений Москвы. В Вашингтоне стали циркулировать слухи о возможности сепаратного мира между СССР и Германией. Так, помощник начальника штаба Управления военной разведки Р. Ли в меморандуме от 12 февраля 1942 г. «Возможность русско-германского урегулирования путем переговоров», указал, что, с одной стороны, «русские говорят о своих больших возможностях и успехах восстановления экономики, но, в то же время, подчеркивают свое плачевное положение и ругают нас за недостаточную поддержку. Такие противоречивые заявления, — замечал Р. Ли, — делаются, очевидно, намеренно, чтобы скрыть истинное положение дел… и служат ширмой для оппортунистических изменений в политической линии, как в ходе самой войны, так и на будущей мирной конференции…»[11].
Однако генеральной линией Рузвельта и его ближайших помощников на советском направлении — таких, как Г. Гопкинс, бывший посол в Москве Д. Дэвис и др., — оставалась всемерная возрастающая поддержка СССР и трезвые оценки его потенциала и национальных интересов. Политическая мудрость американского президента проявилась именно в том, что он не стал заложником негативного отношения к Советскому Союзу. Хозяин Белого дома искренне надеялся и рассчитывал на успехи Красной Армии, сознавая одновременно громадные трудности ведения ею боевых действий против все еще смертельно опасного врага.
В то же время Рузвельт был прагматиком, который не только осуществлял общее военно-политическое руководство военными действиями своей страны, но постоянно держал в уме способы наиболее эффективного и бескровного использования американских сил в развернувшемся глобальном конфликте. Вступление в сражения на Европейском континенте должно было стать для граждан США ожидаемым и положительным событием, влекущим за собой и достойное вознаграждение.
В 1942 году ожесточенные схватки с врагом развернулись на гигантском пространстве Земного шара, на море и в воздухе, однако именно перелом на Востоке означал бы нанесение третьему рейху (основной силе фашистского блока) смертельной раны. Это понимали в Берлине, и германское командование делало все от него зависящее, чтобы весной 1942 г. не просто стабилизировать фронт, но и возобновить наступление против СССР. Перебороть третий рейх, который приобрел бы после краха Советского Союза контроль над его природными богатствами и соединился на суше с Японией, было бы в обозримой перспективе абсолютно невыполнимой задачей.
Стремилось развить свой успех и советское командование, уже ощутившее вкус победы, оно могло использовать для достижения окончательного перелома в войне морально-психологический порыв своих подчиненных и возникшее вместе с обретением стратегической инициативы чувство уверенности в своих силах. В соответствии с решением Ставки ВГК 8 января 1942 г. началось общее наступление советских войск от Ладожского озера до Черного моря. На центральном участке продолжались попытки продвижения вперед Западного, Калининского и Брянского фронтов. С 8 января до 20 апреля осуществлялась Ржевско-Вяземская операция[12]. Однако крупные просчеты в планировании и управлении войсками, недостаток сил и средств, особенно механизированных соединений, не позволили советскому командованию окружить и уничтожить основные силы группы армии «Центр». Незавершенным по тем же причинам осталось и наступление на других участках советско-германского фронта. Тем не менее, львиная доля немецких частей на Востоке была не просто серьезно ослаблена, но и потеряла способность вести наступление. Руководство сухопутных войск Германии вынуждено было тратить значительные резервы на ликвидацию прорывов РККА и укрепление своих оборонительных позиций. Группа армий «Центр» — мощнейшая в рядах вермахта — была отброшена на запад на 100–350 км. Полностью были освобождены Московская, Калининская, Тульская, Рязанская области, часть Смоленской и Орловской областей. Немецкая пехота смогла избежать худших для себя последствий, но группа армий «Центр», оставаясь в обороне и под постоянной угрозой новых прорывов своего фронта, не могла перебросить сколько-нибудь значительных сил для других направлений. Она продолжала нести существенные потери. Подобную войну — тяжелую, грязную, окопную — немцы вскоре стали называть «крысиной». Напротив, для большей части воинов Красной Армии зимние успехи 1941–1942 г. стали доказательством того, что вражеская пропаганда о непобедимом вермахте является мифом. Все возвращается на свои места и они, безусловно, встретят окончание войны в Берлине. Боевой дух красноармейцев и командиров приобретал новое измерение. Только в ходе битвы под Москвой за доблесть и мужество около 40 частей и соединений РККА получило звание гвардейских[13].
После окончания активной фазы боев на центральном участке советско-германского фронта — в апреле 1942 г. — стороны могли подвести некоторые предварительные итоги. После потерь и поражений лета–осени 1941 г. победа под Москвой улучшила военно-политическое и международное положение Советского Союза, укрепила антигитлеровскую коалицию, заставила правящие круги Японии и Турции с возросшей осторожностью смотреть на свое участие в войне против СССР, вдохнула надежду на скорое освобождение народам оккупированных немецкими войсками стран. Ряд историков именно с Московской битвой связывают начало коренного перелома в войне, который окончательно стал фактом после победы советских войск под Сталинградом и завершился разгромом немецких войск на Курской дуге.
Гитлер, напротив, считал, что после преодоления кризиса под Москвой уничтожение СССР и использование его ресурсов будет достигнуто путем нового наступления на южном фланге. В какой-то степени это решение возвращало германское командование к выполнению изначально намеченной цели — получить в ходе войны на Востоке доступ к богатым месторождениям нефти Кавказа и хлебу Кубани и Ставрополья. Логическим продолжением ожидаемого успеха в России был последующий захват стран Ближнего и Среднего Востока и выход к Индийскому океану. Детали продолжения наступательных операций в Советском Союзе стали разрабатываться верховным командованием Германии еще с октября 1941 г. Но ситуация под Москвой смешало все карты. Тем не менее, на летнюю кампанию 1942 г. перед сухопутными восками вермахта ставилась главная задача — возобновить наступление на юге СССР, разрешив одновременно вопрос о Ленинграде. Директивой ОКВ № 41 от 5 апреля 1942 г. предусматривалось: «… Сохраняя положение на центральном участке, на севере взять Ленинград и установить связь на суше с финнами, а на южном фланге фронта осуществить прорыв на Кавказ».
С конца весны 1942 г. командование вермахта начало сосредотачивать для наступления в направлении Кавказа крупную группировку войск. Под руководством начальника Генерального штаба сухопутных войск Германии Ф. Гальдера 11 апреля был подготовлен план наступательной операции под кодовым названием «Блау». Немецким замыслом предусматривалось наступление на воронежском направлении группы «Вейхс» (2-й полевой и 4-й танковой армий) и на острогожском 6-й армии. По достижении Воронежа группа «Вейхс» должна была повернуть на юг и окружить совместно с наступающей на восток 1-й танковой армией основные силы советского Юго-Западного фронта. После этого предполагалось разделение германских сил группы армий «Юг» на две самостоятельные — «А» и «Б», которые должны были продвигаться в направлении Сталинграда и Северного Кавказа.
Весной 1942 г. произошел целый ряд обстоятельств, который способствовал достижению немцами новых впечатляющих успехов. Советская разведка неоднократно сообщала, что основное внимание немецкого командования в 1942 г. году будет приковано к южному флангу Восточного фронта. Однако Сталин и некоторые военные руководители, полагали, что немцы могут ударить и на Москву, поэтому для защиты столицы были сосредоточены главные советские силы. Еще на завершающем этапе Ржевско-Вяземской операции Ставка ВГК стала выделять значительные материальные и людские средства на восстановление Можайского полевого оборонительного рубежа. Серьезное беспокойство начальника Генерального штаба РККА маршала Б. М. Шапошникова, высказанное в телеграмме Главкому Западного направления генералу армии Г. К. Жукову от 24 апреля 1942 г., вызывал тот факт, что основная масса населенных пунктов вблизи передовой была перегружена тыловыми частями и учреждениями, что «затрудняло проведение оборонительных работ и приведение рубежа в боевую готовность»[14]. Задачи укрепления обороны оставались приоритетными для Западного и Калининского фронтов и в последующий период. 21 мая Генштаб предупреждал, что на ряде участков соединения Красной Армии, оставаясь на тех рубежах, которых они достигли в период зимнего наступления, вопросами улучшения своих позиций совершенно не занимались. В отдельных армиях не налажено боевое охранение, части растянуты в линию, не везде создана система опорных пунктов и выделены силы для защиты стыков. Враг, пользуясь этими недочетами, стремится нанести нашим войскам локальные поражения. Факты успешных мероприятий с целью маскировки и введения противника в заблуждение оставались пока единичными[15].
Боевые части РККА в ходе успешного контрнаступления, казалось, избавлялись от страха перед вражеской мощью. Этому процессу способствовали экстренные меры верховного командования по формированию свежих соединений, придания им более гибкой системы управления. Перевод значительной части Действующей армии на новые сокращенные штаты, создание в 1941 г. наряду с дивизиями стрелковых, танковых и других бригад, отказ от корпусного звена в бронетанковых войсках[16]отражало реалии того периода войны: стремление повысить эффективность руководства войсками путем его упрощения. Такие меры считались временными, но были неизбежными в виду понесенных потерь. К тому же они позволяли осуществлять быстрое пополнение потрепанных формирований, сохраняя в их составе закаленное ядро выживших бойцов и командиров.
К весне 1942 г., когда стало понятно, что оборонная промышленность в районах эвакуации в короткий срок способна освоить выпуск танков Т-60, Т-70, Т-34, КВ, советское верховное руководство решило воссоздать механизированные соединения. Армии необходимы были ударные кулаки. Опыт войны наглядно свидетельствовал, что без мощных бронетанковых формирований, способных выполнять самостоятельные задачи не только в тактическом, но и оперативно-стратегическом масштабе борьба с танковыми армиями противника и глубокое наступление практически невозможны. Постановлением ГКО от 16.02.1942 г. предусматривалось создание сразу 120 танковых бригад, которые комплектовались бойцами в возрасте не старше 35 лет. С марта 1942 г. началось массовое формирование танковых корпусов (куда входили танковые бригады), а затем и танковых армий. В мае 1942 г. появились 3-я и 5-я, а в июле 1-я и 4-я танковые армии. Сильной стороной этих объединений была концентрация значительных сил под единым командованием. С другой стороны, их маневренные действия были затруднены наличием в них стрелковых дивизий, обладавших малой подвижностью[17]. Лишь в конце 1943 г. в состав танковых армий вошли механизированные корпуса, способные поддерживать быстрое наступление. Высокую маневренность и ударную силу советским танковым объединениям придавали грузовые и бронеавтомобили, многие из которых в возрастающем объеме стали направляться из США в СССР рамках ленд-лиза с первой половины 1943 г. Однако в 1942 г. возможностей насытить войска автомобильной техникой у Ставки ВГК просто не было. Сказывались потери 1941 г., трудности организации собственного производства и незначительные поставки по ленд-лизу.
Большое значение Ставка ВГК придавала широкому использованию в будущих боях гвардейских минометных частей (ГМЧ), состоявших из знаменитых «Катюш». Уже осенью 1941 г. для более эффективного применения установок М-8 и М-13 на фронте стали формироваться оперативные группы минометных частей (Южная, Брянского фронта, Юго-Западная, Северо-Западная, Ленинградская). Создание оперативных групп ГМЧ продолжилось и в 1942 г. Возросшее поступление «Катюш» позволило создать к июню 1942 г. в Действующей армии 8 фронтовых и 4 армейские группы гвардейских минометов (всего 67 полков и 43 отдельных дивизиона). С освоением промышленностью новой установки М-30 в войсках стали формироваться тяжелые гвардейские минометные полки. В 1942 году советские «Катюши» внесли неоценимый вклад в срыв планов противника захватить Кавказ и выйти к Волге. Тяжелые потери врагу наносила, в частности, оперативная группа ГМЧ Сталинградского фронта, образованная в сентябре 1942 года[18]. В последующие периоды войны гвардейские минометы неизменно участвовали во всех главных операциях Красной Армии, помогая сокрушать оборону вермахта на участках прорыва.
В начале 1942 г. руководство СССР стремилось до предела использовать все доступные источники, питавшие военные усилия Красной Армии. В первой половине 1942 г. отзывались в тыл ранее призванные или ушедшие добровольцами на фронт научные сотрудники, квалифицированные рабочие, железнодорожники и лица ряда других профессий, имевших важнейшее значение для военной экономики. Более планомерным становилось обучение командного состава в училищах и на краткосрочных курсах, подготовка запасных частей. Налаживалась система поощрения солдат и офицеров, активно совершенствующих свои навыки владения оружием. Постановлением ГКО от 11 мая 1942 г. «в целях наиболее эффективного использования пулеметного оружия, повышения роли и ответственности рядового, младшего и среднего начсостава пулеметных частей и подразделений, а также укомплектования их лучшим составом» предусматривалось присваивать опытным красноармейцам-пулеметчикам звание ефрейтор. Одновременно повышались оклады содержания в пулеметных подразделениях. Старшина роты должен был получать в месяц до 65 руб., командир взвода — 700 руб., командир роты — 800 руб.[19]. Все эти меры, наряду с продолжением всемерной популяризацией фактов грамотного поведения советских солдат в бою, стимулированием методами пропаганды и системой воинских наград их доблести и героизма, медленно, но верно способствовали качественному совершенствованию личного состава РККА, укреплению в нем чувства уверенности в собственных силах.
Моральное состояние в большинстве соединений РККА в начале 1942 г. определялось командованием как «здоровое и устойчивое». Случаев героического поведения военнослужащих было множество. Командиры частей личным примером воодушевляли своих подчиненных. Так, в период боев 342-й стрелковой дивизии 61-й армии за овладение н.п. Долбенскими выселками, когда захлебнулась очередная атака подразделений 1148-го стрелкового полка, его командир майор Н. П. Карамушко и комиссар старший политрук И. Г. Плиха подняли бойцов и повели их за собой. Они пали смертью храбрых, но обеспечили выполнение частью поставленной задачи. В тот же период в коммунистическую партию вступило более 200 бойцов 342-й дивизии[20].
Тем не менее, боевые характеристики личного состава Действующей Красной Армии, несмотря на то, что многие советские дивизии в предыдущий период приобрели немалый опыт сражений, еще оставалась слабыми. По-прежнему хромала дисциплина. Зимой–весной 1942 г. в частях сократились случаи дезертирства и членовредительства, однако факты этих воинских преступлений имели место. Только по данным Особого отдела НКВД 61-й армии за конец января–февраль 1942 г. было зафиксировано 96 случаев дезертирства (из них 7 чел. начсостава) и 15 случаев членовредительства (один из начсостава). Показательно, что за тот же период никто не привлекался к ответственности за «антисоветские высказывания», хотя спецорганы зафиксировали и взяли в производство несколько таких эпизодов[21]. Политорганы и особые отделы НКВД фронтов в период затухания наступательных операций и возросших потерь стали отмечать случаи подрыва убежденности в окончательной победе, недовольства красноармейцев своими командирами, их неумением руководить боем. Одним из самых неприглядных явлений, распространившимся как в тыловых учреждениях, так и на передовой, стало пьянство, что напрямую влияло на боеспособность частей. В 1150-м стрелковом полку это привело, как показывают документы, к гибели начальника штаба и нескольких других командиров, «шедших в наступление после групповой пьянки». Было отмечено и ряд незаконных расстрелов офицерами своих подчиненных в пьяном виде. Такие явления грозили подрывом боевого духа и распространением пораженческих настроений, подобных тем, которые были высказаны красноармейцем 1146-го стрелкового полка: «Не правду нам говорят, немцы не боятся зимы. Смотри, как чешут по нам. Наши руководители разве считаются с нашим братом. Жрут только на войне, а поэтому, нашим телом не можем отогнать немцев, которые едят шоколад и пьют ром…»[22]22.
Гигантские масштабы сверхнапряженной мобилизации, проведенной в 1941 — начале 1942 гг., неизбежно вели в отправке на фронт слабо или совершенно необученного пополнения. Генштаб вынужден был констатировать, что красноармейцы «плохо знают свое оружие, оружие содержится грязно… много оружия остается на поле боя». В соединениях отсутствовала отлаженная система подготовки бойцов, командиров и штабов. На фоне многочисленных случаев нарушения воинской дисциплины слабо велась воспитательная работа в подразделениях[23].
Одним из самых серьезных недостатков Красной Армии в начале 1942 г. была острая нехватка техники, стрелкового автоматического оружия и боеприпасов. Возросшее сопротивление немцев стало поводом к недоверию отдельных бойцов к силе своего оружия. Можно понять настроения тех военнослужащих, которые после неудачной атаки на позиции окопавшегося противника и понесенных потерь от эффективного огня пулеметов, минометов и артиллерийских орудий вермахта, заявляли перед своими товарищами: «все равно мы не победим, так как наше оружие хуже немецкого»[24]. Возможности стрелковых дивизий и даже кавалерийских корпусов были ограничены, особенно при глубоком снеге и в период распутицы. Низкий темп советского продвижения вперед приводил к печальным последствиям: немцы, удерживавшие важнейшие транспортные коммуникации, быстро перебрасывали свои резервы на угрожаемый участок и проводили контрудар. Как следствие — значительные силы прорвавшихся частей РККА отсекались от главного фронта. Примером тому служат неудачи зимой–весной 1942 г. 33-й, 29-й и 39-й армий Западного и Калининского фронтов, 2-й ударной армии Волховского фронта, объединений Юго-Западного фронта под Харьковом в Барвенковско-Лозовской операции и др. Отечественный историк А. В. Исаев замечает в этой связи, что стандартным германским приемом, приводившим к провалу советского наступления в этот период, являлось удержание «угловых столбов» в основании прорыва соединений РККА. «Немцы всегда находили населенный пункт, находящийся поблизости от советского прорыва и стягивали к нему крупные силы, обеспечивая плотную оборону. Обходя узлы сопротивления в начальный период операции и отказываясь от лобовых атак, советские войска увязали впоследствии в позиционных боях за «угловой столб». Такая тактика противника, в любом случае, сужала прорыв, давала германскому командованию контроль над коммуникациями[25].
Однако и тем количеством боевых средств, которым обладали командующие советскими объединениями в начале 1942 г., можно было распорядиться более основательно и добиваться успеха при продвижение вперед. Беда была в том, что большинство командиров на фронте пока еще не были способны вести наступление практично и грамотно, исходя из имевшихся ресурсов и степени противодействия противника. Опыт приходил на практике и доставался дорогой ценой. «Мощный кулак» (29-я и 39-я армии) генерала И. С. Конева в феврале 1942 г. оказался отсеченным немцами и понес большие потери. Наши войска неминуемо настигла бы полная катастрофа, если бы не наступление Северо-Западного фронта. Однако ряд командующих Красной Армией уже тогда выделялись своим чувством момента и стремились гибко реагировать на изменение ситуации. Так, Г. К. Жуков, став главнокомандующим Западным стратегическим направлением, на ходу перепланировал операции Калининского фронта, утвержденные Ставкой. Не обладая значительными подвижными силами и резервами, он решил не зарываться далеко вперед, а провести удары на небольшую глубину, «нашинковать» фронт противника на несколько мелких котлов. На заключительном этапе Ржевско-Вяземской операции 20-й армии ставилась задача выйти в тыл немецкой группировки под Ржевом, 5-й армии нанести удар на Сычевку навстречу 39-й армии. Вместо гигантского окружения врага в треугольнике Ржев — Вязьма — Юхнов предстояло расчленить ржевско-вяземскую группировку противника на две части. Сокращение масштабов задач облегчало маневрирование силами: например, в феврале 1942 г. удар 5-й армии был перенесен Жуковым в полосу наступления неудачно действовавшей 20-й армии[26].
Но полководческого таланта одного Жукова было недостаточно для достижения крупного стратегического успеха. Другие генералы часто либо боялись, либо пока не научились искусству решительного маневра. Ставке и Генштабу приходилось даже разъяснять, что в период наступательных операций нельзя смотреть на разграничительные линии между армиями «как на перегородку, которые не могут нарушаться, хотя для этого и требовали интересы дела и меняющаяся в ходе операций обстановка». Нельзя идти вперед, «не обращая внимание на своих соседей, без маневра, который вызывается обстановкой, без помощи друг другу», что облегчает противнику бить советские соединения по частям. Текст соответствующей директивы от 17 мая 1942 г., подписанной И. В. Сталиным и А. М. Василевским, разрешал командующим фронтами «менять в ходе операций разграничительные линии между армиями, менять направления ударов»[27]. Указания были немедленно доведены до штабов армий. Жуков распорядился спустить их и до уровня дивизий, однако к тому времени широко апробировать их на практике уже не представлялось возможным. Наступательные возможности войск Западного направления были исчерпаны.
Все эти негативные факторы, иллюстрировавшие боевые возможности советской стороны наглядно свидетельствовали о том, что Красная Армия образца весны 1942 г. в целом пока еще не представляла эффективной военной машины, способной в кратчайший срок разгромить вермахт. Напротив, Сталин имел все основания считаться с угрозой нового крушения советской обороны на ключевых направлениях советско-германского фронта.
Повышенное беспокойство Ставки ВГК за свой центральный участок подогревалось и немецкой разведкой. Для того чтобы ввести командование РККА в заблуждение, германская сторона разработала план дезинформационных мероприятий, основу которого составила т.н. операция «Кремль». Предусматривалось проведение перегруппировок сил и средств, передислокация штаба 3-й танковой армии в район Гжатска, усиление аэрофоторазведки Москвы и ее окрестностей, рассылка планов взятия столицы неожиданным ударом вплоть до штабов полков и др.[28]. Представляется, что подобная дезинформация вкупе с реальными данными о численности немецких соединений на фронте западнее Москвы, стала одной из причин излишнего, порой гипнотического страха, проявлявшегося и в разгар Сталинградской битвы, не пропустить германский бросок в направлении столицы.
Имея в виду исключить захват врагом Москвы и других жизненно важных регионов страны, советское командование не собиралось и просто отсиживаться в обороне. Общий ход летней кампании 1942 г. виделся из Кремля с точки зрения завоевания прочной стратегической инициативы. Намечалось ввести в сражения новые воинские формирования и уже в ближайшее время освободить значительную часть оккупированной территории страны. Однако, как и в ходе предыдущих операций, планы Ставки ВГК грешили переоценкой собственных возможностей и недооценкой силы противника.
В марте 1942 г. на совещании в Государственном комитете обороны маршал Б. М. Шапошников предложил ограничиться на ближайший период активной обороной. Однако Сталин считал, что нельзя «сидеть сложа руки», и было решено нанести по врагу ряд упреждающих ударов на московском, харьковском направлениях, под Ленинградом, в Крыму и др. участках. На практике, это решение повлекло за собой подготовку и проведение наступательных операций (большего или меньшего масштабов) фактически на всех советских фронтах, за исключением самого северного, Карельского фронта. Намечались следующие действия: разгром ржевско-вяземской группировки противника, освобождение Харькова и всего Крыма, ликвидация демянского плацдарма, операция по деблокаде Ленинграда. Конечной целью Ставки ВГК был выход к концу 1942 г. на границу СССР. Но смелая инициатива изначально несла в себе порок самонадеянности.
Самым уязвимым местом в советском плане стала сама постановка задач — и обороняться и наступать. Отсутствие четкого анализа менявшейся ситуации сыграло свою роковую роль в новых неудачах Красной Армии. К тому же некоторое преимущество в инициативе, возможности выбора участка для нанесения очередного удара, достигнутое в зимние месяцы, было потеряно вследствие неоправданных ошибок верховного руководства в Москве и командования на фронтах.
Начавшиеся в мае активные боевые действия на многих участках советско-германского фронта довольно быстро вскрыли несостоятельность далеко идущих замыслов командования Красной Армии. Намеченные операции не привели к желаемым результатам. Под Ленинградом, в Крыму и под Харьковом советские войска потерпели серьезные поражения. Захлебнулось наступление 2-й ударной армии со стороны Волхова к городу на Неве; более того, сама она оказалась отрезанной от основных сил и получала снабжение лишь через узкий коридор, насквозь простреливаемый вражеским огнем. Безуспешными остались попытки советских частей наглухо захлопнуть и ликвидировать демянский котел, в котором оборонялось до 100 тыс. немецких солдат. Германскому командованию удалось наладить довольно эффективный воздушный мост со своими частями в районе Демянска.
Все эти неудачи привели к тому, что уже в начале лета 1942 г. Красная Армия оказалась в тяжелейшем положении и вынуждена была отступать к Сталинграду и Кавказу. Страна вновь стояла на грани катастрофы. Такое развитие ситуации проистекало, безусловно, из общей слабой боевой эффективности наших вооруженных сил и военной экономики. Необходимость скорейшего повышения потенциала Действующей армии, насыщения ее новой техникой и обученным пополнением для того, чтобы не допустить победы врага, а, напротив, окончательно переломить ход в войны в свою пользу — стало тем эхом Московской битвы, которое отчетливо прозвучало весной 1942 года.
Новые испытания: тяжелые бои и поражения советских войск весной — в начале лета 1942 года
Начавшиеся в мае активные боевые действия на многих участках советско-германского фронта довольно быстро вскрыли несостоятельность далеко идущих замыслов командования Красной Армии. Намеченные операции не привели к желаемым результатам. Под Ленинградом, в Крыму и под Харьковом советские войска потерпели серьезные поражения. Захлебнулось наступление 2-й ударной армии со стороны Волхова к городу на Неве; более того, сама она оказалась отрезанной от основных сил и получала снабжение лишь через узкий коридор, насквозь простреливаемый вражеским огнем[29]. Безуспешными остались попытки советских частей наглухо захлопнуть и ликвидировать демянский котел, в котором оборонялось до 100 тыс. немецких солдат. Германскому командованию удалось наладить довольно эффективный воздушный мост со своими частями в районе Демянска.
Под Демянском
Операция по разгрому демянской группировки противника, включавшей соединения 16-й немецкой армии, началась в рамках общего зимнего наступления советских войск 1941–1942 гг. Главная роль первоначально отводилась 34-й армии генерала Н. Э. Берзарина, входившей в состав Северо-Западного фронта (командующий — генерал П. А. Курочкин). Взаимодействуя с частями 3-й ударной армии на левом фланге и 11-й армией на правом, она должна была окружить несколько немецких дивизий в районе г. Демянска и уничтожить их. Выполнение этой задачи поставило бы группу армий «Север» в тяжелейшее положение.
В начале января советские войска достигли Старой Руссы, но бои с окопавшимся противником приняли затяжной характер. Опираясь на свои опорные пункты, немцы оказывали ожесточенное сопротивление. Желая переломить ситуацию, 22 января Ставка передала Северо-западному фронту 1-ю ударную армию, 1-й и 2-й гвардейские стрелковые корпуса и другие резервы. Демянск предстояло окружить встречными ударами. Почти месяц понадобился советским войскам, чтобы взломать немецкую оборону, но 20 февраля части 34-й армии и 1-го гв. ск соединились в 40 км западнее Демянска, а к концу месяца 11-я, 1-я уд. армии и 2-й гв. ск образовали внешнее кольцо окружения. В общей сложности в «котле» оказалось шесть фашистских дивизий численностью до 96 тыс. человек. Однако для ликвидации окруженных войск сил уже не хватило; резервы Ставки были обескровлены в предыдущих боях.
Немецкому командованию достаточно быстро удалось организовать снабжение окруженных соединений по воздуху. Только за март в «котел» было доставлено 24 тыс. тонн грузов и более 15 тыс. человек. Из окружения вывезли 22 тыс. раненых. К концу марта противник сам перешёл к активным действиям. 20 марта усиленная немецкая группировка в составе пяти дивизий (группа «Зейдлиц») начала операцию по деблокированию демянской группировки, нанеся удар из района Старой Руссы. Части 1-й ударной и 11-й советских армий стойко оборонялись, но враг постоянно наращивал давление, используя свое преимущество в огневых средствах. Встречный удар наносился из самого кольца. 21 апреля коридор к окруженным войскам шириной 4–8 км был пробит в районе деревни Рамушево. Все попытки советских войск вновь перерезать рамушевский остались без результата и привели лишь к новым большим потерям. В конце мая атаки на демянскую группировку прекратились. С 7 января по 20 мая 1942 года Северо-западный фронт потерял 245 511 человек, в том числе 88 908 безвозвратно. Бои по ликвидации демянского плацдарма возобновились зимой 1943 года[30].
Непростые уроки для Жукова: на левом фланге Западного фронта
Защита подступов к столице оставалась для Ставки ВГК главным приоритетом летом 1942 г. Но в ходе развернувшихся на юге России гигантских сражений за Сталинград и Кавказ все большее значение приобретала теперь задача надежно сковать силы группы армий «Центр» и исключить тем самым возможность их переброски на юг для поддержки групп армий «А» и «Б». Судьба кампании, да и всей войны решалась теперь на южном фланге, однако переломить там ситуацию было невозможно без проведения наступательных операций против сильных группировок противника на других направлениях.
Документы советского командования весны–лета 1942 г. недвусмысленно подтверждают существование двуединой цели, существовавшей у советских фронтов, прикрывавших Западное стратегическое направление — защитить Москву и сковать как можно больше сил группы армий «Центр». Ради этого в начале июля 1942 г. войска генерала Г. К. Жукова предприняли ряд частных армейских наступательных операций, общим замыслом которых было, как отмечалось, «вскрыть главную группировку противника против левого крыла фронта»[31].
Операции 10, 16 и 61-й армий Западного фронта весьма показательны в плане критической оценки боевой эффективности крупных воинских объединений РККА на тот период. Они стали своеобразным экзаменом на способность не только обороняться, но и вести успешный наступательный бой. Насколько хорошо был сдан этот тяжелый предмет? Итоговый обзор штаба Жукова, подготовленный по горячим следам операций, показывает, что их непосредственные результаты были ничтожными, хотя общий вклад в дело ослабления вермахта может быть расценен как удовлетворительный. В чем тут дело? Прежде всего, необходимо учитывать силу врага и его замыслы в период после завершения Московской битвы. На этот счет в документах фронта Жукова имеется следующее замечание: «Противник чувствовал себя более уверенно», он «ликвидировал угрозу своему тылу» и занял «современную позиционную оборону». Закопавшись в землю, группа армий «Центр» весь май и июнь создавала различные заграждения, ДЗОТы, блиндажи, огневые точки. Важное дополнение делалось относительно общей стратегической ситуации, планов противника и реакции на них руководства РККА: «как выяснилось, — говорилось далее, — немцы начали свое „летнее“ наступление главными силами на юге, на Воронежском и Ростовском направлениях. Громадные потери в этом наступлении заставили немецкое командование попытаться стянуть на юг резервы за счет других направлений, в частности, Вяземского и Брянского. Этот маневр был нашим командованием своевременно разгадан и в момент ожесточенных боев на юге, войска Западного фронта перешли к активным действиям, целью которых было сковывание резервов противника и недопущение их переброски на юг»[32].
Для наступления был выбран участок левого крыла фронта, против которого, как отмечала разведка, «немцы к концу июня сосредоточили несколько танковых дивизий». Данные о противнике подтверждали, что он усиленно готовится к каким-то масштабным мероприятиям. Переброска 17-й и 4-й танковых дивизий из района Жиздры к юго-востоку — Орлу, могло иметь задачу как дальнейшего продвижения к Воронежу для поддержки германского наступления на юге России, так и организации внезапного броска на северо-восток. В случае успеха последнего группировка РККА в районе Сухиничей была бы отсечена, а немцы получили возможность быстро достигнуть окрестностей Москвы через Тулу и Калугу. Еще большее беспокойство вызывали сведения о подходе к Орлу оперативных резервов из глубины — «до 12 дивизий, из них 4 пехотные, 2 моторизованные и до 2-х танковых». Авиация противника в течение июня производила разведку, «как поля боя, так и тылов и коммуникаций до рубежа Калуга, Тула», прикрывала районы своих войск в направлении Рославль, Брянск, Орел. Наибольшая плотность вражеских сил отмечалась на Жиздренском (6 дивизий) и Болховском (4 дивизии) участках, за спиной которых располагались еще и корпусные резервы, включавшие танковые формирования (более 300 танков). Все указанные соединения пока активности не проявляли, но у советского командования был повод опасаться за основание своего глубокого выступа у Сухиничей. В целом, перед левым крылом объединения Жукова насчитывалось 14 пехотных, две танковые и одна моторизованная дивизии, то есть, более ⅓ всех дивизий врага, действующих перед ним (48 дивизий, из них в первой линии — 34 и в резерве — 14)[33]. Да и само начертание линии фронта давало противнику определенное преимущество.
К 1 июля 1942 г. В составе войск левого крыла Западного фронта появились новые крупные формирования, способные выполнять задачи «по обеспечению мощных контрударов в случае наступления немцев в северо-восточном и восточном направлениях» (1-й гв. кавалерийский, 10-й танковый и 9 гв. стрелковый корпуса). Штаб Жукова специально указывал, что плотность наших войск позволяла «не только обороняться, но и проводить частные наступательные операции на том или ином участке фронта». Укомплектованность частей достигала 75–80% по живой силе и технике (части РГК — практически в полном штатном составе). Пассивность врага, предопределяла и первую задачу операций — «вскрыть его группировку и цели действий на ближайшее время». Необходимо было не дать вермахту застать советские войска врасплох, сковав соединения вермахта боем. Командующий Западным фронтом, в соответствии с указаниями Ставки ВГК, приказал начать наступление 6 июля 1942 г. 10-й армии предстояло выполнить ограниченную задачу — овладеть западной частью Людиново, тогда как 16-й армии, усиленной 10-м ТК «окружить и уничтожить жиздринскую группировку противника, захватить его вооружение и боевую технику и к исходу 9 июля освободить Слободку и Дятьково». В 16-й армии генерала И. Х. Баграмяна для этого имелись солидные силы — 115 тыс. чел., более 700 орудий, почти 1,5 тыс. минометов, 369 танков (по другим данным — 384 танка, из них КВ — 46 ед. и Т-34 — 57 ед.)[34].
Расчет сил и средств, имевшийся до начала наступления, был в советскую пользу (особенно на главных участках). Так, в 16-й армии 2,5 тыс. нашим активным штыкам на один километр фронта противостояло 300 немецких штыков. Преимущество в танках было абсолютным. Но результаты операций все равно оказались мизерными. Прежде всего, не брались в расчет те германские силы, которые могли достигнуть передовой и усилить оборону в первые же часы наступления. Потенциал же соединений РККА, напротив, переоценивался. Как правило, в бою участвовало не более половины, а то и всего ⅓ из состава дивизии. Такие показатели не могли вполне гарантировать прорыва, тем более, что сами участки наступления были в наших армиях слишком широкими (в 16-й армии — 70 км), что рассредоточило имевшиеся войска.
Ранним утром 6 июля, после 30 минутной огневой обработки обороны врага, армии перешли в атаку. Но практически сразу встретили ожесточенное сопротивление. Продвинувшись всего на 200–400 метров, советские бойцы залегли. В 239-й стрелковой дивизии 10-й армии наступающие полки увязли уже в полосе прикрытия. ДЗОТы противника оказались не разрушенными. Углубившись в лесной массив, пехотинцы наткнулись на сильные заграждения, и вынуждены были нести большие потери от пулеметного и минометного огня и автоматчиков, засевших на деревьях. Вскоре немецкое командование организовало мощные контратаки, в результате которых все наступление фактически захлебнулось. Штаб 10-й армии особо указывал, что достигнуть прорыва не удалось не только из-за отсутствия резервов, но и слабой эффективности нашей артиллерии. «Опыт показал, — замечали штабисты, — что короткие, но сильные 30-минутные огневые налеты на опорные пункты с ДЗОТами, являются напрасной затратой снарядов… Пленные немцы про такой огонь говорят — «это приятный концерт». Стрельба, по существу, ведется по площади, когда немцы в это время сидят в ДЗОТах и убежищах». 10-я армия на следующий день возобновила атаки, но они привели лишь к новым потерям. За два дня боев они составили в 330, 239 и 323 дивизиях 271 чел. убитыми, 874 ранеными и 8 пропавшими без вести.
Перестроив боевые порядки, создав «блокировочные группы» для уничтожения ДЗОТов противника, а также выведя артиллерию на прямую наводку, армия попыталась в последующие несколько дней решить поставленные задачи. Но время было уже упущено, враг постоянно контратаковал, а его авиация господствовала в воздухе. Спешно создаваемые штурмовые и блокировочные группы не были заранее натренированы и сколочены для успешного прорыва, не умели быстро преодолевать минные поля. 12 июля в связи с бесперспективностью дальнейших атак, распоряжением Жукова операция была прекращена. 10-я армия, продвинувшись всего на 1–2 км, лишилась всего за неделю боев 2,5 тыс. военнослужащих убитыми, ранеными и пропавшими без вести[35].
В тот же день было свернуто и наступление 16-й армии, где в бой в первый же день операции были введены танковые бригады, а на второй — 10-й танковый корпус. Донесения с участка прорыва были отнюдь не радостными. Наши бронированные соединения сразу же понесли существенные потери и не продвинулись глубоко вперед. Причины были на поверхности: слабая подготовка танкистов, плохое управление на поле боя (на бригаду имелось всего по две радиостанции, установленные на танках), ожесточенные вражеские бомбежки и неумение вовремя рассредотачивать машины во время налетов. Иногда танки попросту сбивались с курса во время движения и тем самым исключались из сражения. Итогом наступления 16-й армии стало то, что она смогла продвинуться на несколько километров вперед, но жиздринская группировка противника разгромлена не была. Более того, после переброски в ее состав 19-й танковой дивизии вермахта, контратаковавшей наши бригады, она стала даже сильнее. За столь незначительный успех нами была заплачена высокая цена. 10-й танковый корпус потерял 82 танка, из них больше всего (38 ед.) легких Т-60, которые могли успешно сопровождать атаки пехоты лишь на слабую оборону противника. Имелись случаи, когда боевые машины 68-й тбр. открывали т.н. «дружественный огонь» по 192 тбр. только из-за того, что «наши экипажи не знали машин американских марок»[36]. Это вело к ненужным и тем более обидным жертвам. В целом, армия лишилась свыше 150 танков, причем «подбитыми и сожженными» всего — погибло 2900 бойцов и командиров и было ранено 11 900[37] .
Потери врага насчитывали, по советским данным, 7,5 тыс. солдат и офицеров, что, очевидно, является преувеличенной цифрой, судя по характеру боев и остающемуся сопротивлению немцев. К вышеперечисленным недочетам наших войск, приведшим к незначительным результатам операций и большим жертвам, штаб Западного фронта добавлял следующие: «Пехота, привыкшая длительное время „сидеть“ в окопах, неохотно покидала их и на открытой местности чувствовала себя неуверенно. Отсюда и все остальные отрицательные стороны боя: плохое взаимодействие с танками и артиллерией, не налаженное управление, отсутствие связи и взаимопомощи с соседями, недостаточная сколоченность… неудовлетворительная маскировка».
Но вряд ли наша многострадальная пехота заслужила таких оценок. Да, она была еще пока плохо обучена и не могла быстро прорвать сильно укрепленные рубежи противника. Но на это были объективные причины: огромные потери предыдущих месяцев и нехватка времени для полноценного обучения и тренировки частей и подразделений. В первой половине 1942 г. мы только приступали к разрешению сложнейшей комплексной проблемы ведения успешного наступления, которая включала в себя вопросы не только насыщения армии техникой и вооружением, но и организации взаимодействия родов войск. К тому же бойцы, которые вставали из окопов и шли в смертельную атаку, не могли отвечать за ошибки вышестоящих командиров, выбравших неверное направление удара, терявших управление или не обеспечивших прикрытие стрелковых подразделений авиацией. В этом отношении пехотинцы вермахта чувствовали себя намного уверенней. В воздухе постоянно висела германская авиация. Тогда как «отсутствие на поле боя нашей авиации, — отмечалось офицерами штаба Западного фронта, — дало возможность немцам бомбить боевые порядки наступающих войск».
Действительно, чтобы скинуть врага с хорошо насиженных позиций, как показал опыт июльских боев Западного фронта, необходимо было заняться серьезной подготовкой войск, начиная с самого низшего звена (отделение-взвод) до уровня штаба армии и фронта включительно. Полосы прорыва обороны делать более узкими, массировать силы и средства для выполнения главной задачи. Чтобы бойцы смелее шли в атаку, необходимо было обеспечить превосходство в воздухе и не просто насытить объединения самолетами, но и научить летчиков «разгадывать замыслы врага». Пока же наши истребители действовали тактически безграмотно — ввязывались в бои с истребителями противника и отвлекались от поля боя в сторону. Тем временем германские бомбардировщики получали полную свободу маневра.
Но потери наших армий в июльских боях оказались не напрасными. Во-первых, командование и рядовые солдаты учились воевать, большой кровью платя за каждую ошибку на уровне тактического, оперативного и стратегического руководства войсками Красной Армии. Во-вторых, фронту Жукова удалось добиться главного — не допустить намечавшейся переброски германских соединений на южное направление, туда, где разворачивались решающие сражения войны. По итогам боев советское командование отмечало, что немцам пришлось бросить против 16-й армии все резервы, «часть которых, как выяснилось, была предназначена к переброске в другие районы (19-я тд была спешно возвращена из-под Рославля, где она находилась в вагонах на пути в Смоленск)». Делался вывод: «Если учесть, что в июле немцы вели активные действия на юге Союза, станет очевидным, что привлечение резервов противника к фронту 16-й армии, являлось фактом, имеющим существенное значение»[38].
Другим «существенным» фактом стало вскрытие германской группировки на левом крыле Западного фронта, принуждение ее вступить в ожесточенные бои и, как следствие, ликвидация имевшихся у группы армий «Центр» перспектив подготовить удар на Москву через Калугу и Тулу. Активность советских армий вынуждала немцев вязнуть в локальных сражениях, которые хотя и не приносили успеха РККА, ни на йоту не приближали вермахт к победе.
Тяжелые бои на Западном направлении в начале июля 1942 г. стали всего лишь «каплями», упавшими в океан развернувшихся событий на советско-германском фронте. Но без них невозможно было добиться той критической массы советских военных усилий, которые в последующие месяцы опрокинули и подмяли под себя отлаженную машину вермахта.
Падение Севастополя
В то время, когда в конце апреля 1942 г. затухали боевые действия советских фронтов в ходе Ржевско-Вяземской операции, и целый ряд прорвавшихся вперед советских соединений сами успели попасть во вражеский капкан в полосе Калининского и Западного фронтов, не лучшим образом складывались дела и на юге. Фактически захлебнулось наступление РККА в Крыму, западнее Керчи. Командующий Крымским фронтов Д. Козлов был практически подавлен «опекой» со стороны члена Военного совета фронта Л. Мехлиса, действовал с оглядкой на него, что привело к плачевным последствиям. Начавшееся 8 мая 1942 г. немецкое наступление на Керченском полуострове, как нож по маслу, разрезало неподготовленные к обороне советские позиции. Керченская катастрофа стоила советским войскам 176 тыс. человек. Теперь все немецкие силы в Крыму были переброшены к Севастополю — городу славы русских моряков.
Оборона города продолжалась с 30 октября 1941 по 4 июля 1942 г. После того как осенью 1941 г. немецкие войска ворвались в Крым, они бросили на захват Севастополя основные силы 11-й армии генерала Э. Манштейна. Еще 4 ноября был создан Севастопольский оборонительный район (СОР), в который вошли войска Приморской армии, морские, сухопутные и авиационные части Черноморского флота (ЧФ). Командующим СОР был назначен командующий ЧФ вице-адмирал Ф. С. Октябрьский, его заместителем по сухопутной обороне — генерал-майор И. Е. Петров. Более 15 тыс. севастопольцев добровольно вступили в народное ополчение и были направлены на пополнение воинских частей. Огневую поддержку войск береговых батарей осуществляли также корабли ЧФ.
В конце мая 1942 г. положение осажденного Севастополя стало критическим. Немецкое командование решило воспользоваться благоприятно складывающейся обстановкой в Крыму и организовать новое мощное наступление на главную базу Черноморского флота. Судьба города была практически предрешена. После многодневных интенсивных налётов авиации и артиллерийских обстрелов 7 июня 1942 г. немцы предприняли 3-й по счету штурм Севастополя. К концу июня силы защитников города истощились до предела, заканчивались боеприпасы. Противник господствовал в воздухе, подтягивал резервы и продолжал почти беспрерывные атаки. 29 июня немцы ворвались в городскую черту. 30 июня развернулись ожесточенные бои за Малахов курган, доминировавший над бухтой. По указанию Ставки ВГК остатки войск, оборонявших Севастополь, должны были эвакуироваться в Новороссийск. Но к 1 июля противник блокировал СОР с моря и держал под огнем все близлежащее побережье. В этих условиях эвакуировать удалось лишь незначительную часть защитников города. По информации Генштаба РККА 4 июля 1942 г. на побережье под Севастополем было еще много отдельных групп бойцов и командиров, продолжающих оказывать сопротивление врагу. Для их эвакуации было приказано посылать мелкие суда и морские самолеты. Из-за огня противника людей могли принимать на борт лишь в 500–1000 м от берега. Советские войска понесли большие потери. По отечественным данным, безвозвратные потери войск СОР с 30 октября 1941 г. по 4 июля 1942 г. составили более 156 тыс. человек (убитыми, пленными и пропавшими без вести). Немцы и их союзники в ходе осады и штурма Севастополя также понесли огромные потери — до 300 тыс. убитыми и ранеными.
Оборона города продолжалась 250 дней и стала символом массового мужества и героизма советских воинов. Она сковала крупные силы противника на южном фланге советско-германского фронта, которые в противном случае могли быть использованы на одном из решающих участков германского наступления летом 1942 года[39]. Однако германское командование смогло высвободить после падения Севастополя значительные силы 11-й армии Манштейна, которые затем были переброшены на север для захвата Ленинграда. Падение города стало и тяжелым моральным ударом для Красной Армии и всего советского народа.
Катастрофа под Харьковом
Как уже упоминалось выше, на мартовском 1942 года совещании в Кремле было решено провести серию частных наступательных операций на различных участках советско-германского фронта, что явно не соответствовало возможностям РККА. Следует отметить, что инициатива некоторых операций исходила не только от Верховного, но и от командования объединениями. В том числе, Военный совет Юго-Западного направления (Главнокомандующий ЮЗН, командующий Юго-Западным фронтом маршал С. К. Тимошенко, член военного совета Н. С. Хрущев, начальник штаба генерал-лейтенант И. Х. Баграмян) в конце марта 1942 г. предложил Ставке ВГК провести наступательную операцию на их направлении с целью разгрома противостоящих сил противника и последующего выхода Красной Армии на линию Гомель, Киев, Черкассы, Первомайск, Николаев.
Для проведения операции командование ЮЗН попросило у Ставки дополнительные силы и средства. Генеральный штаб, рассмотрев это предложение, доложил И. В. Сталину о своем несогласии и невозможности проведения крупной наступательной операции на юге весной 1942 г. Ставка ВГК, не располагая в этот период достаточными резервами, согласилась с мнением Генерального штаба. Однако военному совету ЮЗН все же удалось настоять на проведении частной наступательной операции с целью освобождения Харькова и создания условий для последующего наступления в районе Донбасса. Согласно замыслу операции, предусматривалось нанесение двух ударов по сходящимся направлениям: одного — из района южнее Волчанска, другого — с Барвенковского выступа в общем направлении на Харьков.
Командование группы армий «Юг» (главнокомандующий генерал-фельдмаршал фон Бок) также готовилось к операции под кодовым названием «Фридерикус-1» с целью ликвидации Барвенковского выступа, который создавал угрозу немецким войскам, действовавшим под Харьковом и в Донбассе. Немецкий план состоял в том, чтобы встречными ударами 6-й полевой армии (командующий генерал армии Ф. Паулюс) из Балаклеи и армейской группы (командующий генерал П. фон Клейст) в составе двух армий (1-я танковая и 17-я полевая армии) из района Славянска и Краматорска в общем направлении на Изюм окружить и уничтожить советские войска в этом выступе, затем захватить плацдарм в районе Изюма для развития наступления в направлениях Кавказа и Сталинграда. Начало операции намечалось на 17 мая 1942 г. При этом, советские планы не были для немцев секретом, так еще 22 апреля 1942 г. из-за ошибки пилота к ним в плен попал командующий 48-й армии Брянского фронта генерал-майор А. Г. Самохин, имея при себе директиву Ставки ВГК и оперативную карту с планом Харьковской наступательной операции.
Начальник Генерального штаба маршал Б. М. Шапошников, учитывая рискованность наступления из оперативного мешка, каким являлся Барвенковский выступ для войск Юго-Западного и Южного фронтов, вновь предложил воздержаться от проведения операции. Однако военный совет ЮЗН продолжал настаивать на ее проведении. Мнение Верховного главнокомандующего И. В. Сталина склонилось в пользу проведения операции, и Ставка дала на нее добро. Начало операции было назначено на 12 мая 1942 г.
Таким образом, к наступательным действиям готовились обе стороны. От исхода предстоявшего сражения зависело дальнейшее развитие летне-осенней кампании 1942 г. на южном крыле советско-германского фронта.
Наступление войск Юго-Западного фронта (ЮЗФ) началось, как и планировалось, 12.05.1942 г. Южный фронт имел задачу оборонять занимаемые рубежи в целях обеспечения наступления ЮЗФ, при этом достаточных сил для создания прочной обороны он не имел. За первые три дня ударные группировки прорвали немецкую оборону в полосе до 50 км каждая и продвинулись из района Волчанска на 18– 25 км, а от Барвенковского выступа на 25–30 км, поставив в тяжелое положение 6-ю полевую армию вермахта. Однако противник, несколько изменив первоначальный план действий, 17 мая 1942 г. также перешел в наступление. Войска генерала фон Клейста нанесли мощные удары севернее Славянска и южнее Барвенково по слабо подготовленной в инженерном отношении обороне 9-й армии Южного фронта. Уже в первый день ее оборона была прорвана.
Командующий Южным фронтом генерал-лейтенант Р. Я. Малиновский предпринял попытку организовать контрудар и восстановить положение, однако противнику удалось авиа-ударами нарушить связь и управление войсками. Обстановка требовала немедленного прекращения Харьковской операции. Вечером 17.05.1942 г. исполняющий обязанности начальника Генерального штаба генерал-полковник А. М. Василевский доложил И. В. Сталину о критической обстановке на Южном фронте и предложил прекратить наступление, а часть высвободившихся войск Юго-Западного фронта использовать для ликвидации прорыва противника. Иного способа исправить положение не было, поскольку Ставка в этом районе резервами не располагала.
Сталин и командование Юго-Западного направления находились в смятении. Однако они явно недооценивали сложившуюся ситуацию и считали возможным продолжение харьковской операции. Пытаясь одновременно предотвратить худшие последствия немецкого прорыва, в 16:00 17 мая штаб Тимошенко предписал: «В целях отражения наступления противника, предпринятого на участке 9 А: Передать в оперативное подчинение командующего Южным фронтом 2-й кавкорпус (38, 62, 70 кд)…
1. Для разгрома группы противника, наступающей на Барвенково с юга, организовать и нанести с рассвета 18.05.42 контрудар силами 2 КК и 14-й гв. сд… во фланг и тыл прорвавшейся группы противника… Одновременно стрелковому полку 333 сд со средствами удерживать за собой Барвенково, не допуская прорыва танков и мотопехоты противника на север.
2. Разгром группы противника, наступающей из района Славянск против левого фланга 9 А, организовать силами 5 КК, 12 и 121 тбр и 333 сд.
3. Не менее одной кавдивизии иметь в резерве командующего в районе Барвенково. Одновременно немедленно начать переброску в район Барвенково одной стрелковой дивизии и одной танковой бригады из 37-й армии»[40].
Но ситуация под Барвенково и Славянском ухудшалась с каждым часом. В десять часов вечера 18 мая 1942 г. командующий Юго-Западным направлением маршал С. К. Тимошенко, член Военного совета Н. С. Хрущев и начальник штаба И. Х. Баграмян констатировали: «С утра 17.05 противник, отбросив 9 А Южного фронта, прорвался отдельными танковыми группами в направлении Славянск, Изюм, Андреевка, Барвенково». Мероприятия по ликвидации прорыва должного результата не дали. В связи с этим, руководство ЮЗН решило срочно изыскать виновника приближавшейся трагедии, которым стал командующий 9-й армией. «Вместо того, — отмечалось в боевом приказе Тимошенко, Хрущева и Баграмяна, — чтобы использовать имеющиеся резервы, не допустить распространение танков противника к переправам на р. Сев. Донец, организовать взаимодействие дивизий и ликвидировать прорыв, командующий 9 А генерал-майор Харитонов бросил на произвол судьбы свои войска и трусливо сбежал в Изюм. Благодаря этому уже к полудню 18.05 противник слабыми силами вышел на южный берег р. Сев. Донец на участке Богородичное, Пришиб и отдельными группами танков подошел к южной части Изюм».
Досталось в приказе и командующему Южным фронтом генерал-лейтенанту Р. Я. Малиновскому, который со своим штабом «не проявили достаточной энергии и решительности для восстановления утерянного управления войск, и до сего времени руководство боевыми действиями армии (9-й армии) доверяется обанкротившемуся в бою генералу Харитонову». Дальнейшие указания были жесткими: «Харитонова от командования отстранить и предать суду Военного трибунала», а Малиновскому самому принять руководство 9-й армией и отсечь прорвавшегося в наш тыл врага[41].
Генерал Ф. М. Харитонов осужден тогда не был и воевал дальше. Верховному командованию было ясно, что причина немецкого успеха коренится не в его командовании, а в общей переоценке наших сил и возможностей на харьковском направлении и допущенных ошибках стратегического масштаба[42].
Обстановка на Барвенковском выступе 18 мая 1942 г. стала критической, однако Ставка опять отклонила предложение Генштаба о прекращении наступления. Только вечером 19 мая, когда угроза окружения советских войск стала более чем очевидной, маршал Тимошенко отдал приказ войскам ЮЗФ перейти к обороне, а основную часть войск 6-й армии и два танковых корпуса использовать для разгрома прорвавшегося в их тыл противника. Но это решение было принято слишком поздно. Стремительным продвижением своих танковых и моторизованных соединений противник сорвал сосредоточение советских частей на участке прорыва и вынудил их вступать в бой разрозненно, без авиационной и артиллерийской поддержки.
23 мая 1942 г. армейская группа генерала Клейста, наступавшая из-под Краматорска, соединилась в районе Балаклеи с частями 6-й полевой армии Паулюса, наносившей удар с севера. Пути отхода на восток частям Красной Армии, действовавшим на Барвенковском выступе, были отрезаны. Руководство окруженной группировкой было возложено на заместителя командующего ЮЗФ генерал-лейтенанта Ф. Я. Костенко. Окруженная группировка вела тяжелые бои с 24 по 29 мая. Попытка командования Юго-Западным направлением деблокировать окруженные соединения удалась лишь частично. По советским данным, наши войска потеряли безвозвратно под Харьковом 170 тыс. чел. Погибли многие видные военачальники — генералы Ф. Костенко, А. Городнянский, К. Подлас.
Харьковская катастрофа резко ухудшило обстановку на всем южном крыле советско-германского фронта. Поражение Красной Армии предопределило овладение вермахтом стратегической инициативой и облегчило начало 28 июня 1942 г. немецкого генерального наступления на юго-западном направлении. В результате тяжелых и неудачных оборонительных боев, войска Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов отступили на 100–400 км, а германские войска нацелились на Сталинград и Кавказ[43].
Несмотря на накопленные в предыдущие месяцы стратегические резервы (Действующая армия состояла из 54 общевойсковых армий, одной танковой армии и двух оперативных групп)[44]советские войска были серьезно ослаблены, что предопределило дальнейший неудачный ход боевых действий на юге России.
Германский натиск на Юго-Западный фронт и левое крыло Брянского фронта возобновился практически сразу же. Группа армий «Юг» стремилась использовать создавшиеся выгодные условия и нанесла в начале июня новые удары восточнее Харькова. Как это ни покажется странным, советские войска после столь тяжелых потерь в мае 1942 г. обладали еще значительным количественным превосходством над германскими частями на южном крыле Восточного фронта: 1700 тыс. советских солдат противостояло 900 тыс. немецких. Однако потери Красной Армии продолжали расти, а группа армий «Юг» получала новые подкрепления. По этой причине Сталин был вынужден начать переброску с Дальнего Востока дополнительных резервных сил (до 10–12 дивизий), чтобы закрыть образовавшуюся в обороне брешь.
Уже 10 июня 1942 г. ожесточенные бои разгорелись в направлениях на Волчанск, Чугуев, Купянск. Командующий ЮЗФ маршал С. К. Тимошенко, член Военного совета Н. С. Хрущев и начальник штаба И. Х. Баграмян отправляли донесения на имя самого Сталина. Последний лично следил за обстановкой на обозначившимся теперь самом опасном направлении гигантского фронта. Удары по стыкам советских 21-й, 28-й и 38-й армий наносились крупными пехотными и моторизованными силами группы армий «Юг», при поддержке нескольких сотен танков и подавляющем превосходстве в воздухе. Наши войска не выдержали и начали отход. 11 июня командование Юго-Западным фронтом адресовало Сталину нервное послание, констатирующее полное бессилие советской авиации и вытекающих из этого последствиях: «В начавшемся наступлении на Купянском направлении противник применяет на поле боя и в ближайшем тылу наших войск свою авиацию массированно, имея в воздухе почти постоянно две–три группы бомбардировщиков, плотно прикрытых истребителями. Самолетов в каждой группе доходит до 70–100 единиц… В настоящее время мы располагаем только 200 исправными дневными боевыми самолетами. При тройном превосходстве противник господствует в воздухе и, летая на средних и низких высотах, бомбит и почти безнаказанно расстреливает наши боевые порядки и танки. Это обстоятельство резко снижает боевую эффективность применения наших танков и снижает боевую стойкость нашей пехоты. Учитывая, что противник стянул на харьковское направление основную массу своих танковых войск (3, 23, 14, 18 тд и 60 мд) и значительное количество самолетов и ищет на этом направлении основного решения своего летнего наступления, мы настоятельно просим Вас увеличить общее количество боевых самолетов ВВС ЮЗФ до 500 единиц». Большую часть из них Тимошенко и его штаб просили перебросить «за счет временной придачи с других фронтов», но только так, за счет «уравновешивания сил в воздухе», возможно было «гарантировать разгром противника»[45].
Однако переломить в свое пользу ситуацию в воздухе и на земле Юго-Западного фронту не удалось. Контрудары 38-й армии смогли лишь задержать, но не остановить части вермахта. 11–12 июня советские войска под давлением противника отводились на восточный берег р. Сев. Донец. В полосе 28-й армии танки врага устремились к н.п. Вел. Бурлук. В воздухе одновременно находилось 150–200 вражеских самолетов. Тимошенко заключал: «По-прежнему, главной силой врага, снижающей эффективность нашей обороны и контрудары наших танковых соединений, является авиация»[46].
До конца июня 1942 г. войска Юго-Западного фронта вели то затухающие, то разгорающиеся с новой силой бои с мощными подвижными соединениями группы армий «Юг». Противник, захватив Вел. Бурлук, ворвавшись в Купянск, вышел к 23 июня к р. Оскол. Советские 38-я армия и правый фланг 9-й армий «с целью сохранения живой силы, материальной части и создания прочной обороны» по приказу Военного совета ЮЗФ были отведены на восточный берег Оскола[47].
Германское командование не прекращало давления на Юго-Западный фронт, но было понятно, что это только прелюдия к генеральному наступлению, подготовка к которому вступило в конце июня 1942 г. в завершающую стадию. Первоначально операция «Блау» была назначена на 23 июня. Но в связи с ожесточенными боями под Севастополем, срок был перенесен на 28 июня. К востоку от Курска были сосредоточены 2-я и 4-я танковая и 2-я венгерская армии, под общим командованием генерала Вейхса, которые и перешли 28 июня в наступление. Немцы нанесли новые, более мощные удары, которые теперь следовали один за другим без передышки. Вечером 1 июля части вермахта смогли захватить плацдармы на восточном берегу р. Оскол, прорвав оборону 28-й советской армии. Контрудары 23-го и 13-го танковых корпусов Юго-Западного фронта большого успеха не имели[48]. Тем временем 4-я германская танковая армия быстрыми темпами выходила к р. Дон в районе Воронежа. Потери Красной Армии продолжали расти. Немецкое командование в начале июля приняло решение начать операцию «Клаузевиц». Ее цель — глубокий охват Юго-Западного фронта и выход немецких сил на оперативный простор. 4 июля развернулись жестокие бои на подступах, а затем и в самом Воронеже. Советское командование срочно перебросила к городу 5-ю танковую армию генерала А. Лизюкова. Отчаянные атаки советских танкистов вынудили немцев увязнуть в боях за городские кварталы. Вскоре Гитлер приказал повернуть часть сил Вейхса к юго-востоку и продолжать наступление навстречу 6-й армии Паулюса, перешедшей в наступление 30 июня. 7 июля группа армий «Юг», насчитывавшая теперь около 1,2 млн чел., была разделена на две примерно равные части: группы «Б» и «А» под командованием фельдмаршалов Ф. Бока и В. Листа, которые должны были нанести встречные удары со стороны Воронежа (группа «Б») и со стороны Славянска (группа «А»). Группа армий «Б», включавшую в себя 4-ю танковую, 6-ю и 2-ю армии, 8-ю итальянскую армию и 2-ю венгерскую армию возглавил фельдмаршал фон Бок. В группу армий «А» (фельдмаршал В. Лист) входили 1-я танковая армия и армейская группа Р. Руоффа (17-я немецкая и 3-я румынская армия)[49].
После прорыва к Воронежу 4-я танковая армия начала стремительное продвижение на юг вдоль Дона во фланг и тыл Юго-Западного и Южного фронтов. Советские войска начали быстрый отход. Силы 38-й и 9-й армий и ряд других соединений в середине июля оказались фактически в кольце немецких войск в районе Миллерово.
Почему же немцам вновь удалось, так же, как и летом 1941 г., стремительно продвинуться вперед, окружить и в значительной мере обескровить крупные воинские формирования РККА, обладавшие большей численностью, чем собственно германские ударные соединения? Ответ неоднозначен. Во-первых, германская сторона превосходила советскую в подвижности, а, следовательно, имела преимущество в выборе участка прорыва. Соединения вермахта могли неожиданно ударить в том месте, где их совсем не ждали. Во-вторых, немецкие командиры еще превосходили советских военачальников в тактике ведения боевых действий. В третьих, массированное и безнаказанное использование врагом авиации на поле боя часто дезорганизовывало советские войска, снижало эффективность их контрударов до нулевой отметки. И, наконец, в Красной Армии еще силен был страх перед германской наступательной машиной. Зимой 1941–1942 г. этот страх, казалось, остался позади, но весенние неудачи вновь снизили боевой дух советских бойцов. История повторялась, и германские самолеты, как и летом 1941 года, нависали над головами отходящих советских колонн. Еще требовалось время, чтобы перебороть отступательный синдром. Неудачи в Крыму и под Харьковом отнюдь не способствовали этому процессу. Напротив, германские солдаты, казалось, снова убедились в своем превосходстве над противником.
23 июля Юго-Западный фронт, отступавший в Большой излучине Дона, был переименован в Сталинградский. Командующим фронта был назначен вначале С. К. Тимошенко, но вскоре руководство объединением было возложено на генерала В. Н. Гордова. 28-я, 38-я, 9-я и 57-я армии Юго-Западного фронта передавались в состав Южного фронта.
«За Волгой земли нет»: героическая оборона Сталинграда
Эпохальная Сталинградская битва (17 июля 1942 г. — 2 февраля 1943 г.) делится на два этапа: оборонительный и наступательный. Первый оборонительный этап битвы операции продолжался до 19 ноября 1942 г. — до того момента, когда советские войска перешли в решительное контрнаступление. Лето и осень 1942 г. стали тем критическим рубежом, когда враг окончательно убедился в непоколебимости силы Красной Армии и всего советского народа. За операциями, проведенными советскими войсками с целью обороны Сталинграда, следил поистине весь мир. Стойкость советских воинов стала решающим фактором в достижении Красной Армией коренного перелома в войне. В Сталинградской битве в разное время участвовали войска Сталинградского, Юго-Восточного, Юго-Западного, Донского, левого крыла Воронежского фронтов, Волжская военная флотилия и Сталинградский корпусной район ПВО.
После того как немецким войскам удалось в середине июля вновь охватить часть сил на южном фланге советско-германского фронта, Ставка ВГК, наученная горьким опытом предыдущих неудач, приняла решение отвести свои войска на восток, не дожидаясь того, когда сделать это будет уже поздно. 28-я, 38-я, 9-я армии Юго-Западного фронтов, а также 37-я армия Южного фронта начали отступление в направлении большой излучины Дона. Управление и части Юго-Западного фронта устремились теперь непосредственно в район Сталинграда для развертывания на подступах к городу нового Сталинградского фронта.
Немецкому командованию не удалось провести полного охвата отступающих советских сил. Руководство Красной Армии делало выводы из недавних поражений. Несмотря на то, что отступление к Дону проходило по открытой местности, в условиях господства в воздухе германской авиации, катастрофы, подобной харьковской, не произошло, и гигантской ловушки удалось избежать. Даже тогда, когда немцам удавалось опережать советские части, выходить им в тыл, командиры Красной Армии не теряли самообладания и принимали все меры для прорыва вражеских заслонов. Часто успех сопутствовал тем советским соединениям, которые в определенный момент, по приказу своего командования, делились на ряд более мелких подразделений и прорывались на восток, забирая с собой лишь легкое оружие. Большинство советских частей сумели таким образом просочиться через германские порядки, оставляя командиров вермахта в недоумении: как и когда русские сумели выучиться эффективной тактике отступления?
Отсутствие быстрых и самое главное громких побед в излучине Дона раздражало Гитлера. Влекомый желанием покарать кого-нибудь за такое состояние дел, фюрер принял решение устранить фон Бока от командования группы армий «Б». 15 июля преемником пожилого фельдмаршала на этом посту стал генерал (с 1943 г. фельдмаршал) М. Вейхс. Задачей немецких войск на юге России Гитлер считал быстрейшее продвижение к Ростову, занятие переправ через Дон и выход к предгорьям Кавказа. Основная нагрузка в наступлении ложилась на группу «А», продвигающуюся по направлению к Северному Кавказу. Группа «Б» должна была прикрыть ее с севера и занять Сталинград.
К середине июля немецкое командование обнаружило для себя новую неприятность. Все разведданные говорили за то, что взять Сталинград сходу вряд ли удастся. Вокруг города еще с осени 1941 г. строились целых три оборонительных обвода. Сталинград являлся крупнейшим промышленным центром, в котором находились такие крупнейшие оборонные предприятия, как заводы «Судоверфь», «Красный Октябрь», Сталинградский тракторный завод. Из ворот последнего выходило к тому времени до 50 % всех танков Т-34. В городе производились пушки, мощные двигатели, стрелковое оружие и другая военная техника. Но самое главное, к июлю 1942 г. к западу от Сталинграда был создан новый фронт, готовый вести решительную оборону. По этой причине германское командование вынужденно перебросило на сталинградское направление дополнительные силы. В состав 6-й армии Паулюса влились шесть новых дивизий, снятые с кавказского направления, что, конечно, значительно усилило ее наступательную мощь.
Сама судьба толкала германский вермахт в сторону Сталинграда. Постепенно из города, лежащего на второстепенном направлении, он стал превращаться в центр всей кампании. Чем больше сюда перебрасывалось немецких сил, чем ожесточеннее шла борьба на подступах к Волге, тем значимей становилась победа какой-либо из сторон в этом гигантском сражении. Отметим также, что уже на первом оборонительном этапе Сталинградской битвы советское командование получило некоторое преимущество перед противником. Немецкие войска наносили удары по расходящимся направлениям: на Сталинград и на Кавказ (причем по мере развития наступления разрыв между ними увеличивался). Это ослабляло общую мощь германского удара на юге России, позволяло советскому командованию маневрировать резервами. Позднее это дало возможность облегчить задачу перехода в контрнаступление.
Однако во второй половине июля 1942 г. положение на сталинградском и ростовском направлениях продолжало складываться не в пользу советских войск. Ставка ВГК приказала командующему Южным фронтом Р. Я. Малиновскому отвести войска за Дон в его нижнем течении. 25 июля Ростов на Дону пал. Организовать здесь крепкую оборону и вернуть город советскому руководству не удалось. К западу от Сталинграда перебрасывались новые советские резервы. В состав Сталинградского фронта вошли 63-я, 62-я, 64-я армии — всего около 200 тыс. чел. Кроме того, из Юго-Западного фронта передавались 8-я воздушная и 21-я армии; в бой вводились две морские стрелковые бригады, курсанты военных училищ.
Общепринято, что бои на дальних подступах к Сталинграду начались 17 июля 1942 г. Однако особенностью сложившейся обстановки в большой излучине Дона в то время было отсутствие соприкосновения между советскими и германскими войсками. Первой начала выдвижение вперед навстречу 6-й армии Паулюса 62-я советская армия генерала В. Я. Колпакчи. Ее передовые подразделения завязали бой с немцами у хутора Морозов уже 16 июля. На следующий день в бой стали вступать основные силы армии[50].
Передовые отряды советских 62-й и 64-й армий, мужественно обороняясь, сдерживали противника несколько дней на рубеже рек Чир и Цимла. Все это время в тылу фронта шло усовершенствование защитных рубежей. К сожалению, первые же столкновения с врагом принесли нашим войскам серьезные потери. Одно из самых многочисленных объединений вермахта, 6-я армия Паулюса, быстрыми темпами подходило к Дону с запада. Она имела две ударные группировки: северную (14-й танковый и 8-й армейский корпуса) и южную (51-й армейский и 24-й танковый корпуса).
Сталинградский фронт к 17 июля занял оборону по левому берегу р. Дон до Серафимовича и Клетской, и далее на юг в излучине Дона — до Верхнекурмоярской. От Верхнекурмоярской до Таганрогского залива развернулся Южный фронт. При отступлении Южный фронт понес трудно восполнимые потери. В четырех его армиях осталось лишь немногим больше ста тысяч человек. Чтобы укрепить руководство войсками на северокавказском направлении, Ставка расформировала Южный фронт, а все его оставшиеся войска передала в состав Северо-Кавказского фронта, командующим которым был назначен Маршал Советского Союза С. М. Буденный. 37-я и 12-я армии Северо-Кавказского фронта получили задачу прикрывать ставропольское направление, а 18, 56-я и 47-я армии — краснодарское[51].
23 июля командование Сталинградским фронтом принял на себя В. Н. Гордов, тогда как С. К. Тимошенко был отозван в распоряжении Ставки. Тогда же в район Сталинграда для координации действий войск прибыл начальник Генштаба РККА А. М. Василевский. Очевидно, что Сталин не забыл провала Тимошенко под Харьковом и окружения под Миллерово. До назначения в октябре 1942 года командующим Северо-Западным фронтом он практически оставался не у дел, выполняя отдельные поручения Верховного. Сталин, вызывая его в Москву, бросил всего лишь несколько фраз, мол, маршал устал и ему надо отдохнуть. Тимошенко, конечно, нес полную ответственность за предыдущие неудачи, но справедливости ради отметим, что ее в равной мере разделяет и Ставка, допустившая неверную оценку ситуации весной — в начале лета 1942 г. Тимошенко обладал твердой волей и большим полководческим талантом. Современные историки оценивают его руководство войсками достаточно высоко, указывая, что в нем выделялись «стремление к всестороннему охвату событий во всей их сложности и взаимосвязи, к высокой активности ведения боевых действий, основываясь на основополагающих принципах советского военного искусства, сильная воля, целеустремленность, умение смело брать на себя ответственность за принципиально новые решения, суровая каждодневная требовательность, оптимизм, глубокая идейная убежденность в правоте дела, за которое вел борьбу советский народ»[52].
23 июля противник нанес удар по главным силам 62-й и 64-й армий. Наступая на Клетскую, северная ударная группа 6-й армии смяла оборону 62-й армии на правом фланге, имевшую здесь самую низкую плотность. Главный удар противника ожидался на другом — левом фланге, выводившем кратчайшим путем к Сталинграду. Это был просчет советского командования, вызванный, прежде всего, отсутствием полных разведданных о силах и намерениях противника. Обходя фланги советских войск, части вермахта пытались окружить их в большой излучине Дона, выйти в район Калача и быстро прорваться к Сталинграду. В тот же день появилась директива №45 верховного командования вермахта о продолжении операции «Брауншвейг» (так с 30 июня стала называться операция «Блау»). Группе «Б» теперь, после выполнения первой задачи наступления, ставилась задача уничтожить противника на пути к Сталинграду, перерезать перешеек между Доном и Волгой и парализовать движение по реке[53].
Вскоре две стрелковые дивизии и ряд других советских частей оказались в окружении. Угроза капкана продолжала оставаться для всей 62-й армии Сталинградского фронта. Лишь спешный ввод в бой бригады тяжелых танков КВ и контрудар 13-го танкового корпуса с юга предотвратил быстрый выход врага в тыл основным силам 62-й армии. Тем временем части 64-й армии, отступая под натиском южной группировки 6-й немецкой армии, вынуждены были отойти за р. Дон.
Советское командование сознавало, что предпринятых контрмер совершенно недостаточно для того, чтобы отразить удар мощной группировки противника. Тогда Сталин обратился к плану ускоренного формирования и сосредоточения 1-й и 4-й танковых армий (командующие генералы К. С. Москаленко и В. Д. Крюченкин) за счет подходящих резервов. Им ставилась цель — наступление по сходящимся направлениям на верхнебузиновскую группировку врага (14-й танковый корпус 6-й армии). Как вспоминал маршал Василевский: это была «единственная возможность ликвидировать угрозу окружения 62-й армии и захвата противником переправ через Дон…»[54].
Уже 26–29 июля перешли в наступление танковые корпуса 4-й танковой армии, а 30 июля часть сил 1-й танковой армии. Но контрудар против группировки Паулюса не достиг своей цели. Соединения вводились в бой разрозненно. В 22-м танковом корпусе из 175 танков к 1 августа осталось всего 56 машин[55]. Всего за несколько дней советские войска потеряли в большой излучине Дона до 450 танков, в том числе 1-я и 4-я танковые армии до 300. В результате Сталинградский фронт лишился своего «бронированного кулака» и вынужден был снова отступать. Части 62-й армии вскоре оказались в мешке и вынуждены были прорваться из него с большими потерями. Тем не менее, врагу пришлось на некоторое время задержать дальнейшее продвижение вперед своих передовых корпусов и дожидаться резервов. Маршал Г. К. Жуков замечал по этому поводу: «…Конечно, ввод в бой частей, находящихся в стадии формирования, нельзя признать правильным, но иного выхода в то время у Ставки не было, так как пути на Сталинград прикрывались слабо»[56].
Беспристрастный анализ тех событий показывает, что «иной» путь все же был возможен. При более тщательной подготовке танкового наступления, внимательном отношении к тактике ведения боя механизированных соединений советские войска могли уже тогда — в июле 1942 г. — переломить ход сражения и нанести крупное поражения наступающим колоннам 6-й армии вермахта. Всего этого не случилось, и бронированные силы были растрачены впустую. У высшего командования Красной Армии пока просто не хватало умения руководить возросшими массами танковых соединений.
Другая причина коренится в общей стратегии выбранной советским верховным командованием на 1942 г. Увлекшись наступательными действиями в конце весны, Ставка предопределила многие свои поражения. Последующие события, когда враг уже овладел стратегической инициативой, заставляли Верховного, Генштаб и командующих фронтами лишь реагировать с большим или меньшим успехом на складывающуюся обстановку. Плохо подготовленные контрудары вели к большим потерям, но относились к разряду неизбежных, когда на кону стояло удержание жизненно важных центров России.
Недооценка стратегической обороны, поспешная подготовка наступательных операций по-прежнему, присутствовали в высшем звене руководства РККА. Как-то после войны, вспоминая уроки своих поражений, С. К. Тимошенко вопрошал Г. К. Жукова: «До сих пор не могу понять, почему же мы в 1942-м не решились перейти к обороне, как это потом сделали под Курском в 1943-м?». Жуков после тяжелого вздоха ответил: «Нужны были накопленные за два года войны горький опыт, мужество и стратегическая мудрость, чтобы созреть до таких решений»[57].
Следует также подчеркнуть, что сильными сторонами противника, наряду с превосходством в воздухе и умелым использованием танковых соединений, оставалось хорошо налаженная связь. Она во многом обеспечивала на данном этапе четкое взаимодействие войск на поле боя. Немцы в полную силу использовали радиосвязь, тогда как в наших частях преобладала проводная, которая часто рвалась. Приходилось использовать посыльных, которые приносили приказы часто уже тогда, когда обстановка кардинально менялась и требовала новых решений. Но и в действиях частей вермахта стал присутствовать шаблон. Размеренно, исходя из устоявшейся программы, за авиацией в бой вступали танки, за ними — пехота. Герой Сталинграда В. И. Чуйков замечал также, что немецкие танки не шли в наступление без поддержки пехоты и авиации. Он старался учиться на своих и чужих ошибках, наблюдать за действиями противника, изучать его слабые места, не подставляя своих, воевать «с открытыми глазами»[58]. Сметливые советские генералы уже тогда старались действовать на опережение противника, например, обрушивать на врага огневой вал артиллерии еще до перехода в атаку его бронетехники и пехоты.
Действительно, горькие уроки поражений не пропадали даром: именно тогда в Генштабе РККА, в оперативных управлениях советских фронтов многие военачальники стали осознавать непреложную истину — для того чтобы разбить врага, нанести ему сокрушающее поражение, необходима тщательная и всесторонняя подготовка, организация полнокровных резервов, отработка взаимодействия на всех уровнях фронтового и армейского командования.
Но пока положение на сталинградском направлении продолжалось ухудшаться. Фронт практически лишился своих наступательных возможностей, а оборона во многом была дезорганизована. Нужны были новые резервы. Кроме того, в конце июля 1942 г. последовали кадровые решения. Генерала Колпакчи на месте командующего 62-й армией сменил А. И. Лопатин, а в командование 64-й армией вместо В. И. Чуйкова вступил генерал М. С. Шумилов. Чуйков был послан на ее южный фланг для выяснения обстановки и принятия мер по усилению обороны. Прибыв на место, он подчинил себе все имевшиеся там силы. С 10 сентября генерал-лейтенант В. И. Чуйков был назначен командующим 62-й армией.
К юго-западу от театра сражений за Сталинград обстановка также складывалась драматически. В конце июля 1942 г., захватив Ростов-на-Дону, немцам удалось быстро форсировать Дон в его нижнем течении. Танковые и моторизованные колонны фельдмаршала Листа неудержимым потоком двинулись по просторам Кубани. Танкисты 1-й танковой группы Клейста давили своими гусеницами богатейший урожай пшеницы, который был выращен, но так и не собран. Красная Армия лишилась не только многих тысяч тонн хлеба. Под германской оккупацией вскоре оказались крупные нефтяные месторождения в районе Майкопа. Лишь благодаря оперативным действиям спецорганов их удалось взорвать перед самым приходом гитлеровских войск. Отступать дальше теперь означало подорвать жизненные силы государства, лишиться сырья, которое позволяло вести войну. Под пятой оккупантов уже находилась огромная территория, миллионы советских солдат томились во вражеских лагерях. Правдой являлось и то, что десятки тысяч военнослужащих Красной Армии и гражданских лиц согласились (одни добровольно, другие из-за невыносимых условий плена и оккупации) сотрудничать с врагом. В одном только тыловом районе 6-й армии Паулюса во время ее наступления на Сталинград находилось до 50 тыс. советских военнопленных, так называемых хиви — «добровольных помощников», обеспечивавших снабжение боевых германских частей. Над страной вновь, как и осенью 1941 г., нависла смертельная опасность.
28 июля 1942 г. появился приказ Народного комиссара обороны № 227, подписанный лично Сталиным (известный также под названием «Ни шагу назад!»). Суровыми мерами предусматривалось навести порядок в войсках, укрепить их дисциплину, пресечь сдачу в плен к противнику. Без распоряжения сверху запрещалось оставлять занимаемые позиции. Заградительные отряды обязаны были расстреливать отступающих дезертиров, паникеров и трусов. Для нарушителей воинской дисциплины, бойцов и командиров, совершивших различные проступки, предусматривалось наказание в виде штрафных рот и батальонов. Документ зачитывался перед строем во всех подразделениях Красной Армии и Военно-морского флота.
Приказ стал одним из самых жестких нормативно-правовых актов Второй мировой войны. Несмотря на то, что в наши дни он подвергается ожесточенной критике, его необходимость в тех условиях казалась очевидной. Можно сказать, что приказ произвел перелом в моральном настрое многих солдат и офицеров. Он мало кого удивил, — нечто подобного давно ожидали. В преамбуле документа говорилось о главном, о чем необходимо было помнить ежесекундно: потере громадной территории, миллионов людей, важнейших ресурсов, хлеба, то есть, жизненных сил страны, без которых невозможно ее существование. Отступать дальше означало либо погибнуть, либо сдастся на милость победителя. Для защитников Сталинграда ответ на приказ был однозначный: «За Волгой земли нет!»
В то время свой выбор должен был сделать каждый человек, будь то командир или рядовой боец. Но сегодня нам важно знать, не только о том, какое моральное воздействие оказал приказ № 227 на бойцов Красной Армии. Необходима правдивая картина той ситуации, которая складывалась на передовой после введения в жизнь мероприятий, предусмотренных документом. Очевидно, что вокруг заградотрядов и штрафных подразделений за последнее время сложилась целая сага, претендующая на роль доминанты, открывающей глаза современному поколению на истинный ход войны. Десятки статей, книг, документальных и художественных фильмов рассказывают нам о том, как отряды «энкэвэдэшников» стреляли в спину простым солдатам — безвинным жертвам тоталитаризма, а штрафные роты заваливали своими телами немецкие пулеметы в отчаянных и, в целом, напрасных атаках. Еще немного красок и «свидетельств» и такая сага, в которой жестокая реальность смешивается с мифами и откровенной ложью станет истиной в последней инстанции. Нас подведут к мысли о том, что вся война шла из-за страха, а героями были лишь те, кто боролся против бесчеловечного режима.
Разные события войны нельзя вписать в лубочный рассказ о победе, ради которой отдали жизни миллионы людей. На фронте было все — включая самое мерзкое и отвратительное. Но непреложным фактом является то, что низкое не затмило высокое, а предательство не вытравило героизм. Знание архивных документов и их тщательный анализ помогает нам разобраться в темных и светлых сторонах войны, и, в том числе, дать выдержанное заключение об исполнении приказа № 227. Следует сразу отметить, что заградительные отряды начали у нас создаваться еще с лета 1941 г., в частности на фронте генерала Еременко. Тогда они выполняли, в основном, функции сбора отставших военнослужащих и перенаправления их на фронт или в спецорганы. Как известно, текст приказа от 28 июля 1942 г. зачитывался на всех фронтах, включая те, которые вели бои на центральном участке. Здесь возможно было провести мероприятия, предусмотренные в документе, в более спокойной обстановке, чем на сталинградском направлении. В докладной записке полкового комиссара Горбушина военному комиссару штаба Западного фронта говорилось, что с начала августа им была проведена работа по созданию заградотрядов и штрафной роты в 16-й армии. Три заградотряда были созданы, соответственно, к 5, 10 и 13 августа. Их комплектование, равно как и назначение командного состава в штрафное подразделение происходило, как отмечалось, «за счет лучших людей, имеющихся в составе армии». Туда направлялись рядовые, младшие командиры и политработники не раз побывавшие в боях, имевшие ранения, прошедшие боевую школу. И, напротив, исключались те, кто был ранее судим, попадал в окружение, имел родственников на оккупированной территории, или просто солдаты старших возрастов. Формированием отрядов и тщательным отбором личного состава занимался отдел укомплектования армии на базе запасного полка с участием командира, комиссара и начальника особого отдела. Причем из 2 тыс. человек было, в конце концов, отобрано всего 600 солдат. Другими словами, штрафные подразделения создавались из обычных фронтовиков — строевых красноармейцев и командиров, а отнюдь не военнослужащих НКВД. (Как не редко показывается в современных фильмах о войне. — М. М.). Однако заградотряды входили в подчинение особых отделов НКВД армий. Их вооружение, хотя и исключительно стрелковое, было, тем не менее, весьма внушительным: винтовки, автоматы ППШ, ручные пулеметы, 50 мм минометы и пулеметы «Максим» (по два на отряд). Первое время заградотряды стояли не в тылу «малоустойчивых» дивизий, а на отдельных участках, в которые входило по 2–3 соединения. Занимая, в основном, перекрестки дорог, они «выполняли функции, по существу, заградотрядов дивизий, существовавших до приказа № 227». «Это в лучшем случае, — отмечали военкомы соединений, — а в худшем превращались в контрольно-пропускные пункты НКВД». Необходимые коррективы в работу специальных подразделений вскоре были внесены, что дало политуправлению армии сделать следующее заключение: «В настоящее время заградительным отрядам отводится участок в тылу малоустойчивой дивизии или бригады, с которыми отряды имеют непосредственную связь и действуют совместно с командиром соединения»[59].
Конечно, не все директивы по укомплектованию заградотрядов и штрафных подразделений исполнялись четко в срок. Нередко командование объединений подходило к этому вопросу халатно, спустя рукава, что вело не к повышению, а, наоборот, снижению боеспособности частей. В 16-й армии, например, одним из главных проколов стало незнание заградотрядами перегруппировки собственных «подопечных» соединений. Это приводило к тому, как указывалось в документах, «что часть, производя перегруппировку, и ее подразделения должны проходить через участок заградотряда, который, не зная, что подразделение выполняет боевую задачу, останавливает его, тем самым замедляя выполнение боевого приказа. Кроме того, такая система может привести к ненужным жертвам, так как заградотряд может в таких случаях без предупреждения открывать огонь по отходящим частям»[60]. Сколько таких «ненужных жертв» было в полосе Западного фронта документы не раскрывают, как не найдено пока информации о точном количестве случаев, когда заградотряды открывали немедленный огонь на поражение по солдатам, покинувших поле боя без приказа и бегущих в тыл.
О том, что практика действий заградительных подразделений включала в себя самые жесткие меры к паникерам, трусам и дезертирам сегодня хорошо известно. Всего, по состоянию на 15 октября 1942 года в Красной Армии было сформировано 193 заградительных отряда. Детали, отражающие их работу, весьма показательны. Так, в справке, направленной в Управление особыми отделами НКВД СССР (не ранее 15 октября 1942 г.) говорится, что всего заградотрядами с начала их формирования (с 1 августа по 1 октября 1942 г.) было задержано 140 755 военнослужащих, сбежавших с передовой линии фронта. Из числа задержанных: арестовано 3980 человек; расстреляно 1189 человек; направлено в штрафные роты 2776 человек; направлено в штрафные батальоны 185 человек; возвращено в свои части и на пересылочные пункты 131 094 человека.
Пристального внимания требуют документы фронтов, оборонявших летом-осенью сталинградское и кавказское направления, находившихся на самых сложных участках и не раз попадавших в критическое положение. Из всех советских заградотрядов особым отделам Сталинградского фронта подчинялось — 16, а Донского фронта — 25. На этих фронтах за период с 1 августа по 1 октября 1942 г. было произведено наибольшее число задержаний, арестов и расстрелов во всей Действующей армии. Так, по Донскому фронту задержано 36 109 человек, арестовано 736 человек, расстреляно 433 человека, направлено в штрафные роты 1056 человек, направлено в штрафные батальоны 33 человека, возвращено в свои части и на пересыльные пункты 32 933 человека.
По Сталинградскому фронту задержано 15 649 человек, арестовано 244 человека, расстреляно 278 человек, направлено в штрафные роты 218 человек, направлено в штрафные батальоны 42 человека, возвращено в свои части и на пересыльные пункты 14 833 человека[61].
Эти цифры отражают ситуацию в самые трагические месяцы советского отступления к Волге и предгорьям Кавказа. В целом, работа заградотрядов высшим командованием была признана необходимой и оценена с положительной стороны. В документах особых отделов не говорится о расстреле бегущих солдат, хотя отмечаются случаи «решительных мер» для приостановки отходящих в беспорядке военнослужащих, открытия огня «над головами отступающих», как это было на участке 396-го и 472-го стрелковых полков 399-й стрелковой дивизии 62-й армии 14 сентября 1942 г. Тогда, действием заградотряда бегущий личный состав был остановлен и «через два часа полки заняли прежние рубежи своей обороны». Но в боевых сводках не раз упоминается и о том, что отряды, призванные не допустить паники, нередко сами вступали в бой с врагом, занимали передовые позиции и несли существенные потери[62].
Заградотряды находились, как правило, в удалении от передовой. По мере продолжения войны и роста боевой устойчивости частей, командование ставило перед ними задачи охраны тыла от диверсантов, уничтожения вражеских десантов, задержания дезертиров. Уже в ходе наступательных операций 1943–1944 гг. они следили за порядком на переправах и направляли отбившихся от своих подразделений солдат на сборные пункты. Осенью 1944 г. заградительные отряды, как подразделения, в которых была утрачена непосредственная необходимость, и использующиеся главным образом не по назначению, были упразднены.
Но летом 1942 г. никакие меры, которые могли бы предотвратить дальнейшее отступление Красной Армии, ликвидировать смертельную опасность стране не могли считаться советским верховным командованием излишне суровыми. Любой либерализм в этом деле, по мнению Сталина и лиц, отвечавших за проведение в жизнь приказа №227, необходимо было искоренить в зародыше. В своей директиве № 9 начальник Главного политического управления Красной Армии А. С. Щербаков констатировал, что некоторые члены Военных советов и политорганы не понимают «военную и политическую значимость приказа Народного комиссара обороны №227 и ограничились формальным зачтением его личному составу». Вся работа сведена «к очередной кампании». «Создание заградотрядов и подбор командно-политического состава для штрафных батальонов и рот нередко передоверили второстепенным лицам, а политорганы не оказывают командованию должной помощи. В заградотряды нередко направляются плохо обученные и недисциплинированные красноармейцы, не знающие русского языка и не участвовавшие в боях. Отдельные члены военных советов и начальники политорганов, по-прежнему, либеральничают с трусами, паникерами и нарушителями воинского долга». Щербаков предупреждал: «Они, видимо, не понимают, что выполнение приказа товарища Сталина немыслимо без острой борьбы против элементов, сопротивляющихся наведению порядка и дисциплины в армии. Есть такие комиссары и командиры, которые мирятся с настроениями благодушия и успокоенности… Вместо того, чтобы решительно вытравить эти опасные явления, они фактически поощряют вредную болтовню о том, что приказ относится, главным образом, к частям, ведущим активные боевые действия… Многие военкомы и политработники, очевидно, не поняли, что приказ товарища Сталина является основным военно-политическим документом, определяющим боевые задачи всей Красной Армии и содержание партийно-политической работы на ближайший период войны». Главпур РККА «предлагал» решительно покончить с кампанейщиной, требовать решительного исполнения приказа, воспитывать мужество и доблесть красноармейцев на героических примерах своих товарищей, разъяснять, что «теперь военное и внешнеполитическое положение нашей Родины в большой мере зависит от выполнения каждым бойцом, командиром и политработником своего долга…»[63].
Выполнение указаний Сталина предусматривало и скорейшее введение в бой штрафных подразделений, которые на многих фронтах в середине августа только начинали создаваться. Например, в 16-й армии Западного фронта штрафная рота к тому времени уже была укомплектована постоянными кадрами командного и политического состава. Тогда как «переменный состав» — то есть, солдаты, «проявившие во время боя с врагом трусость и паникерство» — только начал поступать. Из дивизий, бригад и корпусов армии к 19 августа было прислано всего 30 человек. Тем не менее, ожидалось, что уже 22 или 23 августа штрафная рота получит первое боевое задание[64].
Таким образом, для особых отделов и политорганов Действующей армии было еще большое поле деятельности по созданию штрафных подразделений, призванных стать местом отбытия наказания для лиц, проявивших трусость или осужденных за другие преступления. Штрафные роты и батальоны внесли свой собственный — оплаченный большой кровью — вклад в оборону города на Волге. Они также, по праву, разделяют честь достижения нашей армией перелома в войне. Честь, которую они оправдали в отчаянных и гибельных контратаках на врага, удержании до последней капли крови вверенных позиций. Возможность «искупить» свою вину кровью имелась на всех фронтах, и, конечно же, на тех, которые в тот период вели ожесточенные бои в излучине Дона и на подступах к Кавказу.
В начале августа 1942 г. противник продолжал наращивать свои усилия на сталинградском направлении и продвигаться к предгорьям Кавказского хребта. Новые попытки советских контрударов не увенчались успехом. Более того, в начале августа немецким войскам удалось отрезать от своих тыловых коммуникаций на восточном берегу Дона ряд крупных советских соединений. Им пришлось с боем переправляться на левый берег реки, теряя людей и технику. Большинство советских частей сражались в большой излучине Дона геройски. Они заставили врага снизить темпы наступления. Однако инициатива все еще оставалась у германского командования.
Генерал Паулюс требовал подкрепления своим войскам, в которых появились признаки усталости. Необходимо было позаботиться и о флангах ударной группировки. Гитлер откликнулся на его просьбу. В полосу 6-й армии были направлены итальянские части (8-я итальянская армия), а впоследствии еще и румынские соединения. Дополнительно Паулюсу передавались и чисто германские соединения — один армейский корпус и танковая дивизия. 6-й армии предстояло завершить разгром советской 62-й армии и захватить Сталинград.
После подхода резервов Паулюс принял решение окружить 62-ю советскую армию, нанеся удар по сходящимся направлениям своими танковыми и армейскими корпусами. Начавшееся 7 августа наступление, казалось, полностью достигло цели. Соединившись в районе Калача, немцы смогли отрезать на западном берегу Дона до 30 тыс. советских военнослужащих. После этого часть сил 6-й армии нанесла удар на север — против плацдарма советских войск на ее левом фланге. Передав этот участок 8-й итальянской армии Паулюс устремился к переправам через Дон. Ставке ВГК пришлось спешно бросать в бой в малой излучине Дона прибывшую из резерва 1-ю гвардейскую армию. Ее отчаянные атаки и мужественное сопротивление окруженных советских частей, прорывавшихся на восток, задержало дальнейшее безостановочное германское продвижение[65].
Гитлер видел, что бои в районе излучины Дона приобретают все более напряженный характер. Ему необходим был быстрый и решительный успех, который пока не удавался. В это время фюрер принял решение повернуть часть сил 4-й танковой армии генерала Гота с кавказского направления на Сталинград — армия передавалась из группы «А» в группу «Б». Ей предстояло теперь сокрушить советскую оборону на южных подступах к городу. Поистине Сталинград как магнит притягивал к себе немецкие войска. Начальник штаба оперативного руководства ОКВ генерал А. Йодль заявил: «Судьба Кавказа будет решена под Сталинградом». 4-я танковая армия действовала на стыке советских фронтов (Сталинградского и Северо-Кавказского), отступавших по расходящимся направлениям. Это предопределило быстрый успех объединения Гота, продвинувшегося по степи за несколько дней около 150 км и преодолев Сталинградский обвод. Выход немецких войск к станции Абганерово (30 км к югу от Сталинграда) чрезвычайно обеспокоил Ставку ВГК. Сюда перебрасывались новые резервы, которые, однако, вступали в бой разрозненно и несли большие потери. Тем не менее, германскому командованию пришлось на несколько недель задержаться у Абганерово, отбивая отчаянные советские атаки.
Советское командование продолжало наращивать свои оборонительные силы. Под Сталинград прибывали дивизии с Дальнего Востока и Забайкалья. 7 августа из состава Сталинградского фронта был выделен новый фронт — Юго-Восточный под командованием генерала А. И. Еременко (64-я, 57-я и 51-я армии). Отметим, что его действия были довольно успешными. Немцам так и не удалось сокрушить оборонительный участок этого фронта южнее Сталинграда, хотя именно здесь наступали танки Гота, переброшенные с кавказского направления. Начальник Генштаба сухопутных войск Германии Ф. Гальдер отмечал, что войска 4-й танковой армии наткнулись тогда на мощную оборонительную позицию противника[66].
Фронтовые документы показывают, в каком крайне тяжелом положение находились тогда войска, оборонявшие сталинградское направление, насколько напряженной была обстановка с управлением объединений, подвергавшихся беспрестанным ударам врага. В ночь на 7 августа генерал Еременко был вызван по прямому проводу Ставкой ВГК. Накануне он сообщил в Москву, что из-за отсутствия средств связи и офицеров управления, он не в состоянии немедленно взять под свое начало вновь образуемый Юго-Восточный фронт (находящийся в полосе прямого продвижения немцев к Сталинграду). Генерал просил дать ему хотя бы один-два дня для устройства всего дела. Находившийся на другом конце провода начальник Генштаба КА генерал А. М. Василевский был сух и категоричен. За его словами стояло жесткое требование Верховного: «Товарищ Сталин приказал Вам вступить в командование Юго-Восточного фронта не позднее вечера 7 августа. Директива на этот счет сейчас передается. Вот все, что приказано передать Вам». Еременко пытался возражать, еще раз доложить Сталину о ситуации, говоря, что и «сам рад скорее это сделать… Прошу хотя бы мне дали вступить с 8 августа днем или вечером, иначе просто невозможно управлять в такой сложный период, какой создается на юге Сталинграда». Василевский остался неумолим: «Я передал Вам категорические указания тов. Сталина, которые вызваны исключительно тяжелой обстановкой, которая сложилась под Сталинградом. В качестве управления надо использовать управление 1-й танковой армии, ее средства связи, прибывший и прибывающий к Вам комсостав… Необходимо принять от Сталинградского фронта полностью развернутую сеть связи по всем принимаемым от них войскам. Приказ Ставки, как Вам известно, я отменить не могу, передокладывать бесполезно, так как обстановка требует, чтобы Вы немедленно вступили в командование своими войсками». Еременко согласился с тем, что надо скорее брать в свои руки войска и пояснял, что он уже включился в работу и, в целом, активно помогает генералу Гордову и члену Военного совета фронта Хрущеву в том, «чтобы не допустить противника к Сталинграду и разбить его на линии укрепления»[67].
Ставка вынуждена была на ходу импровизировать, принимать решения, которые вносили элементы дополнительного напряжения и нервозности в действиях генералов на поле боя. Чехарда в названиях фронтов, изменения в их командовании, задачах и ответственности, конечно, представлялась обузой для управления войсками и при иной ситуации была бы справедливо осуждаема. Но тогда, в августе 1942 г., все было подчинено суровой необходимости парировать смертельную опасность быстрого падения Сталинграда. Любые доступные силы перебрасывались, перенацеливались и переподчинялись исходя из этой главной задачи. Удары по развернутым порядкам врага наносились по мере подхода сколько-нибудь значительных сил из глубины. 9 августа Василевский вновь вызвал к прямому проводу Еременко и сообщил ему следующую новость: «Тов. Сталин считает целесообразным и своевременным объединить вопросы обороны Сталинграда в одних руках, а для этой цели подчинить Вам Сталинградский фронт, оставив Вас по совместительству в то же время и командующим Юго-Восточным фронтом…». Далее следовал вопрос: «каковы будут Ваши соображения?» Ответ Еременко был более чем положительным: «Мудрее товарища Сталина не скажешь. И считаю совершенно правильно и своевременно». Он также согласился на назначение к нему заместителем генерала Ф. И. Голикова, вместо которого на 1-ю гвардейскую армию вставал генерал К. С. Москаленко — все «достойные командиры»[68].
Ближайшей задачей Юго-Восточного фронта Еременко посчитал ликвидировать опасное продвижение противника к южным подступам Сталинграда. Он докладывал также о том, что его войска весь день 9 августа сдерживали атаки врага и наносили контрудары. Несмотря на то, что линии связи постоянно нарушались из-за бомбежки люфтваффе, он получил известия о неплохих результатах боев к юго-западу от города, об отличных действиях дивизионов «катюш», «наделавших делов» в районе Абганерово, где вся «прилегающая местность горит». Несмотря на то, что противник, по его словам, «получил хороший урок в трехдневных сражениях», он продолжал подводить к этому участку свежие соединения. Разведка засекла колонны из 70 танков и 250 автомашин[69].
На следующий день Еременко получил очередное указание Ставки, которое сдерживало его наступательный порыв: «Тов. Сталин приказал, — сообщалось из Москвы, — чтобы Вы особенно наступлением на юг не увлекались, а поставили бы перед собой задачу, во что бы то ни стало восстановить оборону по южному фасу Сталинградского обвода (тянувшимся от оз. Цаца, далее через Абганерово, р. Мышкова до Логовский. — М. М.) и отбросить противника километров на 10–20, создать предполье для усиления этой обороны. За счет отказа от наступления, выделить часть сил для усиления запада и северо-запада (район Калач на Дону, Песковатка, Ветрячий. — М. М.) с тем, чтобы во что бы то ни стало удержать плацдарм на западном берегу Дона и не допустить противника с этих направлений к Сталинграду»[70].
Однако Еременко не смог выполнить строжайшие распоряжения Москвы и удержаться на линии Дона. Западное и северо-западное направление к Сталинграду сделалось через несколько дней наиболее угрожаемым. Советские войска в тот период вчистую проигрывали в скорости маневра немецкому командованию, которое, к тому же по максимуму использовало условия открытой местности. Новый немецкий бросок к Волге последовал 15–16 августа. 6-й армии Паулюса удалось значительно продвинуться вперед, расчленив советскую группировку на две части. Германские войска захватили важные плацдармы на восточном берегу Дона. Оборона 62-й армии была прорвана. 23 августа 14-й танковый корпус вермахта неожиданно для советской стороны прорвался на стыке 4-й танковой и 62-й армии Сталинградского фронта. Пройдя по тылам советских войск около 60 км, он вышел к Волге на северной окраине Сталинграда в районе рынка. Под огнем немецких орудий оказались цеха Сталинградского тракторного завода. В тот же день германской авиацией был нанесен сильнейший бомбовый удар по жилым кварталам Сталинграда. Город был практически полностью разрушен. Тысячи военных и мирных жителей погибли в огне гигантских пожарищ, возникших после налета. Маршал А. И. Еременко впоследствии вспоминал, что происходившее в Сталинграде напоминало кошмар, разрывы бомб следовали один за другим. «Из района нефтехранилищ огромные султаны пламени взмывали к небу и обрушивали вниз море огня и горького, едкого дыма»[71]. Отметим, что громадных жертв среди мирного населения можно было избежать, если бы была своевременно проведена эвакуация города. Но этого не случилось. Долгое время переправы через Волгу были заняты угоняемым от врага сельхозтехникой и крупным рогатым скотом. Спешное спасение оставшихся людей началось лишь после немецкого прорыва к Волге. Последствия были трагичны. Хотя за несколько дней было переправлено на левый берег реки 300 тыс. чел., многие транспортные суда и катера Волжской флотилии попали под жесточайший вражеский огонь и были затоплены. Из 490 тыс. довоенного населения Сталинграда, к которым нужно добавить несколько десятков тысяч эвакуированных людей с Украины и даже из блокадного Ленинграда, к концу Сталинградской битвы в городе осталось лишь 32 тыс. человек. Покинуть Сталинград до августа 1942 г. смогли около 100 тыс.
С 15 августа начались бои за Сталинградский тракторный завод, практически находящийся уже в черте города. Особенностью Сталинграда являлось то, что по своей ширине он занимал довольно узкую полосу в 2 – 3 км, но по длине — вдоль берега Волги — вытянулся более чем на 15 км. Городской оборонительный район к моменту германского прорыва обороняли лишь отдельные запасные части, дивизия НКВД, курсанты, сводный отряд морской пехоты. Советское командование пыталось в срочном порядке восстановить положение и закрыть образовавшуюся брешь. В бой бросались вновь прибывающие резервы, в том числе те, которые ранее намечалось использовать против танковой армии Гота. Отчаянные советские атаки предотвратили быстрое занятие Сталинграда и не позволили немцам отрезать силы 64-й и 62-й от города. Они отходили на восток. Для лучшей управляемости войска дивизии 62-й армии, отрезанные от главных сил Сталинградского фронта, были переданы в состав Юго-Восточного фронта. 64-я армия, после упорных боев на подступах к городу, отошла на средний оборонительный обвод и заняла там жесткую оборону. Контрудар советского 2-го танкового корпуса не позволили 6-й армии быстро продвинуться в городские кварталы с севера. Немцы также закрепились и постепенно стали продвигаться к югу, вглубь района заводских цехов. В середине сентября врагу удалось ворваться в городские кварталы (вернее в их развалины) с запада и юго-запада. Начались кровопролитные сражения в самом городе. Его обороной в это критическое время руководил находившийся вместе с войсками начальник Генерального штаба генерал (с 1943 г. маршал) А. М. Василевский.
В конце августа 1942 г. Ставка ВГК решила нанести контрудар в южном направлении со стороны Сталинградского фронта — первоначально силами 1-й гвардейской армии — с целью ликвидации вражеского прорыва к Волге и восстановления связи с 62-й армией Юго-Восточного фронта, оборонявшейся в городе. Тем временем к городу перебрасывались резервные армии: 24-я генерала Д. Т. Козлова и 66-я генерала Р. Я. Малиновского. Верховное Главнокомандование направляло в район Сталинграда все, что было возможно. Только вновь формируемые стратегические резервы, предназначенные для ведения дальнейшей борьбы, пока не вводились в действие. Тогда же в Сталинград с Западного фронта был направлен Г. К. Жуков. В наступление, таким образом, должны были перейти сразу три советские армии. Но основная проблема состояла в том, что им приходилось вступать в бой сходу, тогда как в потрепанных в предыдущих боях танковых корпусах оставалось не так много бронированных машин. Лишь в недавно прибывшем 7-м танковом корпусе генерала П. А. Ротмистрова положение было более благополучным, в нем насчитывалось 169 танков[72].
Сталин требовал от Жукова немедленного удара «северной группы войск». Маршал вспоминал разговор с Верховным: «Вам следует принять меры, чтобы 1-я гвардейская армия генерала Москаленко 2 сентября нанесла контрудар, а под ее прикрытием вывести в исходные районы 24-ю и 66-ю армии, — сказал он, обращаясь ко мне. Эти две армии вводите в бой незамедлительно, иначе мы потеряем Сталинград». Прилетев 29 августа в штаб Сталинградского фронта генерала В. Н. Гордова и ознакомившись с положением дел от него и начальника Генштаба А. М. Василевского, находившегося там в это время, Жуков начал готовить контрудар на 6 сентября. Необходимо было дождаться подхода и сосредоточения резервных сил. Но, по требованию Верховного, считавшего после доклада Еременко, что город может пасть в ближайшие часы, сроки были перенесены на более раннею дату.
Войска 1-й гвардейской армии перешли в наступление уже утром 3 сентября, но смогли продвинуться в направлении Сталинграда всего лишь на несколько километров. Дальнейшее продвижение было остановлено ударами вражеской авиации и танков. 5 сентября советский натиск возобновился — теперь в бой вводились 24-я и 66-я армии. Маршал Г. К. Жуков вспоминал: «…После залпов „катюш“ началась атака. Я следил за ней с наблюдательного пункта командующего 1-й гвардейской армией. По мощности огня, которым встретил противник наши атакующие войска, было видно, что артиллерийская подготовка не дала нужных результатов и что глубокого продвижения наших наступающих частей ожидать не следует… Продолжавшийся весь день напряженный огневой бой к вечеру почти затих. Мы подвели итоги. За день сражения наши части продвинулись всего лишь на 2–4 километра, 24-я армия осталась почти на исходных позициях… Третий и четвертый день сражений прошли главным образом в состязании огневых средств и боях в воздухе. 10 сентября, еще раз объехав части и соединения армии, я окончательно укрепился во мнении, что прорвать боевые порядки противника и ликвидировать его коридор наличными силами и в той же группировке невозможно. В таком же духе высказались и генералы В. Н. Гордов, К. С. Москаленко, Р. Я. Малиновский, Д. Т. Козлов и другие. В тот же день я передал Верховному по ВЧ:
— Теми силами, которыми располагает Сталинградский фронт, прорвать коридор и соединиться с войсками Юго-Восточного фронта в городе нам не удастся. Фронт обороны немецких войск значительно укрепился за счет вновь подошедших частей из-под Сталинграда. Дальнейшие атаки теми же силами и в той же группировке будут бесцельны, и войска неизбежно понесут большие потери. Нужны дополнительные войска и время на перегруппировку для более концентрированного удара Сталинградского фронта. Армейские удары не в состоянии опрокинуть противника.
Верховный ответил, что было бы неплохо, если бы я прилетел в Москву и доложил лично эти вопросы…»[73].
Неудачный советский контрудар привел к большим потерям, однако он связал боями значительные вражеские силы, нацеленные непосредственно на Сталинград, прежде всего 8-й армейский и 14-й танковый корпуса. Жертвы не были напрасными, они не позволили немецкой группировке воспользоваться слабостью 62-й армии и быстро овладеть городом. Ожесточенность боев не позволяла Паулюсу рассчитывать на скорый успех, о чем он и докладывал фюреру. В итоге, 6-я армия получала в свое распоряжение 4-ю танковую армию, а ее командующему было обещано, что на фланги объединения будут переброшены подкрепления со стороны союзников Рейха.
Ожесточенность боев нарастала с каждым днем. В 62-й армии, на должность командующего которой вступил генерал В. И. Чуйков, насчитывалось к 11 сентября всего около 50 тыс. чел.[74]. Тем временем противник, значительно превосходя в силах, ускоренно готовился к решающему штурму Сталинграда, который начался 14 сентября.
Особенно тяжелыми для сталинградцев были первые три дня штурма. Немецкие танки при поддержке мотопехоты неудержимо продвигались к берегу Волги. Они прорвались к центру города и захватили Мамаев курган. В южную часть Сталинграда ворвались моторизованные части Гота. Казалось, что силы советских войск на исходе, и они неизбежно будут сброшены в воду. Паулюс уже готов был праздновать победу, считая, что у русских не осталось никаких шансов. Но положение спасла 13-я гвардейская дивизия А.Родимцева, численностью около 9,5 тыс. чел. Всего за две ночи, понеся тяжелые потери в личном составе и технике от бомбовых ударов и ураганного обстрела артиллерии противника, она сумела переправиться на западный берег Волги и с ходу вступить в бой. В реке горела разлившаяся нефть, но бронекатера Волжской флотилии, баркасы, простые лодки неудержимо плыли на западный берег к гранитным террасам набережной, спускающейся к Волге. При переправе дивизия понесла значительные потери, но сразу повела атаку на вокзал и другие важные объекты города.
Дивизия вступила в бой неожиданно, в том месте, где гитлеровцы рассчитывали в считанные часы дойти до Волги. В районе центральной пристани уже были немцы, но они были выбиты неожиданным ударом и откатились назад. Гвардейцы продолжили наступление. Более того, два советских полка продвинулись вперед и захватили Мамаев курган, господствующий над большой частью Сталинграда. Бои за эту высоту продолжались вплоть до января 1943 г. В боях за городской вокзал погибли фактически все, кто здесь сражался, но пока были живы, вокзал не сдали. Сам генерал Родимцев находился на передовой, обходил командные пункты соединения, ежесекундно подвергая себя смертельной опасности.
Хотя в отдельных районах города противник находился всего в 150–200 м от берега Волги, дальше он продвигаться уже не мог. Борьба шла за каждую улицу, за каждый дом. Легендой стала оборона всего одного дома бойцами под командованием сержанта Я. Ф. Павлова. В течение 58 дней и ночей советские солдаты не сдавали свои позиции. В ночь с 26 на 27 сентября 1942 разведгруппа (3 бойца), возглавляемая старшим сержантом Павловым, захватила четырехэтажное здание в центре Сталинграда и удерживала его в течение почти трех суток. В подкрепление разведгруппе подоспел взвод под командованием лейтенанта И. Ф.Афанасьева. Здание, которое вошло в историю войны как ''дом Павлова'', стало важным опорным пунктом обороны в полосе 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Немцы яростно атаковали здание, обстреливали и бомбили его, но взять так и не смогли. 24 бойца шести национальностей отстаивали свой дом — часть своей Родины — до победного завершения Сталинградской битвы. Я. Ф.Павлов затем прошел дорогами войны от Сталинграда до Эльбы, был ранен. Будучи уже лейтенантом, узнал о том, что он Герой только перед демобилизацией в 1945 году в Германии[75].
Особенное значение в условиях ближнего боя с противником, когда до его передовой было всего несколько десятков метров, приобретала выучка и мужество каждого отдельного красноармейца. Наиболее сильные и смелые бойцы объединялись в штурмовые группы, которые скрытно приближались к позициям врага, забрасывали его гранатами, а затем решительно атаковали. Именно в таких боях подразделения Красной Армии приобретали бесценный опыт сражений в городских кварталах, который затем был использован в боях за Киев, Будапешт, Варшаву и, наконец, Берлин.
Ставка ВГК стремилась как могла облегчить положение защитников города на Волге. Новый удар Сталинградского фронта в северном направлении был произведен в середине сентября. 1-я гвардейская армия, усиленная 340 танками, 24-я армия, ряд других соединений попытались пробить брешь в обороне противника, но наткнулись плотный огонь противника. Значительную роль в срыве наступления сыграла вражеская авиация, совершившая только за 18 сентября 2 тыс. самолетовылетов. Советские бойцы залегали перед окопами немцев и несли большие потери. Общие же потери 1-й, 24-й и 66-й армий Сталинградского фронта с 1 по 26 сентября составили 107 тыс. чел.[76].
В конце сентября (директива от 28.09.1942 г.) Ставка разделила силы, действовавшие в Сталинграде и к северу от него на Сталинградский (бывший Юго-Восточный) и Донской (бывший Сталинградский) фронты. Советские соединения, сражающиеся в развалинах волжской твердыни, теперь входили в объединение, название которого соответствовало обороняемому городу. Донской фронт возглавил генерал К. К. Рокоссовский.
Второй штурм Сталинграда враг предпринял 27 сентября — 7 октября 1942 г. Немцам удалось несколько потеснить армию Чуйкова. Ожесточенные бои, нередко переходящие в рукопашные схватки, шли в развалинах заводов. Советские подразделения были отброшены с Мамаева кургана, но сумели закрепиться на его северо-восточных склонах. Сильному обстрелу подвергался штаб 62-й армии. Линия фронта, шириной до 25 км, сжималась, как струна. Глубина оборонительных порядков советских войск не превышала 2 км, а в некоторых местах составляла всего 200 метров. Но немцам не удалось преодолеть их. Атакующий порыв 6-й армии вскоре выдохся. Удачным оборонительным действиям 62-й армии, получавшей подкрепления, способствовал все усилившийся огонь советской артиллерии с левого берега Волги. Те небольшие клочки территории, остававшиеся за Красной Армией в Сталинграде, вряд ли бы удержались, если бы не поддержка с другого берега. Свой смертоносный груз обрушивали на противника гвардейские минометы — «Катюши». Несколько реактивных установок действовали непосредственно на правом берегу Волги под прикрытием склона к реке. Чтобы открыть огонь, они отъезжали к самой кромке воды, а сделав залп, вновь возвращались в защищенное место. Один удачный залп «Катюш» в октябре месяце фактически уничтожил целый немецкий батальон, перешедший в атаку. В то же время германская авиация не могла теперь эффективно поддерживать ударные подразделения 6-й армии, та как была лишена возможности производить прицельное бомбометание. Противоборствующие стороны находились постоянно в плотном огневом соприкосновения. От своего окопа до вражеского расстояние часто не превышало дальности броска гранаты. В то время в Сталинграде советские дивизии в среднем насчитывали не более 1–2 тыс. активных бойцов, сказывались огромные потери. С другой стороны, та небольшая площадь, остававшаяся за 62-й армией, просто не могла бы вместить большое количество войск. И против этих малочисленных подразделений враг бросал все новые и новые силы. Паулюсу казалось, что стоит бросить в бой еще один «последний» батальон и русские дрогнут. Но проходили дни, недели, а русские стояли. Стойкость советских бойцов изумляла противника. За эпохальной битвой поистине следил весь мир. Поражение Красной Армии грозило самыми трагическими последствиями
не только для СССР, но и всей антигитлеровской коалиции. Известный западный историк А. Кларк замечал, что «германское наступление, начавшееся столь превосходно, всего в течение нескольких недель расширило границы рейха до своих наибольших пределов. Весь мир пришел от этого в трепет. Но вскоре стало очевидно, что германское наступление забуксовало. В течение последующих двух месяцев линия фронта на картах оставалась неизменной»[77].
Потеря защитниками Сталинграда Центральной пристани потребовало перестройки системы снабжения советских сил в городе. Волжская флотилия продолжала поддерживать линии коммуникаций севернее и южнее пристани. Далее на север был проложен пешеходный мост на железных бочках. Попытка врага выйти в тыл советским соединениям, наступая вдоль реки, провалилась.
Немцы стали называть продолжающиеся бои «крепостной» войной. Пройденное расстояние в прибрежных оврагах, балках, в развалинах заводов они высчитывали метрами. За каждый дом, подвал, цех, разрушенную будку велась борьба не на жизнь, а на смерть. Немецкий генерал Г. Дёрр описывал впоследствии сталинградскую действительность в мрачных тонах: «…Несмотря на массированные действия авиации и артиллерии, выйти из рамок ближнего боя было невозможно. Русские превосходили немцев в отношении использования местности и маскировки и были опытнее в баррикадных боях и боях за отдельные дома…»[78].
Бои в городе не затухали, и каждый день мог стать критическим для обороняющихся. Констатировав в приказе 14 октября 1942 г. факт завершения в целом летней кампании, Гитлер, тем не менее, не имел в виду прекращения операций в Сталинграде. Город необходимо было взять во что бы то ни стало. В этот же день начался очередной штурм. В. И. Чуйков так описывает происходившие тогда «незабываемые» события:
«…В тот день мы не видели солнца. Оно поднялось в зенит бурым пятном и изредка выглядывало в просветы дымовых туч. Под прикрытием ураганного огня три пехотные и две танковые дивизии на фронте около шести километров штурмовали наши боевые порядки. Главный удар наносился по 112-й, 95-й, 308-й стрелковым и 37-й гвардейской дивизиям. Все наши соединения сильно ослаблены от понесенных потерь в предыдущих боях, особенно 112-я и 95-я дивизии… [Противник] буквально душил нас массой огня, не давая никому поднять голову на наших позициях. В 10 часов 109-й полк 37-й гвардейской дивизии был смят танками и пехотой противника. Бойцы этого полка, засевшие в подвалах и в комнатах зданий, дрались в окружении… В 15 часов волна немецких танков прорвалась к парку Скульптурный, и тут они напоролись на засаду. Наши танкисты били немецкие танки без промаха. Этот опорный пункт немцы пытались взять, но не взяли ни 14, ни 15 и ни 16 октября. И только 17-го он был разбит авиацией противника. Бой шел непрерывно, день и ночь. Окруженные и отрезанные гарнизоны продолжали драться, извещая о своем существовании по радио: „За Родину умрем, но не сдадимся!“… С утра 15 октября противник ввел в бой свежие силы (305-ю пехотную дивизию) и продолжал развивать наступление на юг и на север вдоль Волги. Его артиллерия простреливала наши боевые порядки насквозь, авиация по-прежнему обрушивала на город тысячи бомб. Однако разрубленная пополам армия продолжала сражаться. Северная группа (124-я, 415-я и 149-я стрелковые бригады и части дивизии Ермолкина) вела бой в окружении с превосходящими силами противника, наступавшими с севера от Латашанки, с запада — по долине Мокрая Мечетка и от Тракторного завода. Связь с войсками этой группы непрерывно рвалась. В ночь на 16 октября на правый берег Волги был переброшен полк дивизии Ивана Ильича Людникова, который мы сразу ввели в бой севернее завода „Баррикады“, где у нас был наиболее слабый фронт обороны»[79].
Ожесточенные бои шли за заводы «Красный октябрь» и «Баррикады». В некоторых местах противник прорывался к Волге и стремился развить успех к северу и югу вдоль Волги. От вражеского огня блиндажи рушились, как карточные домики. Чуйкову пришлось перенести свой командный пункт на несколько сот метров и развернуть его у самой воды. В бой бросалось все, что имелось в наличие, в т.ч. солдаты из тыловых служб (включая сапожников, портных, конюхов и др.). Немцы также изымали тыловиков со спокойных участков фронта, желая сломить остающиеся очаги сопротивления и совершить последний рывок в несколько десятков метров. Но к 23–24 октября стало очевидно, что противник начинает выдыхаться. Он не выдерживал отчаянных контратак советских бойцов и откатывался назад. Тем не менее, бои продолжались до самого конца октября. 25 октября Паулюс возобновил атаки крупными силами на всем фронте Чуйкова и вскоре занял пос. Спартановка. Но в тот же день в наступление перешли войска правого фланга 64-й армии в районе Купоросное, а 62-я армия получила подкрепление — 45-ю стрелковую дивизию. Советское командование ради удержания плацдармов в Сталинграде пошло на этот шаг, даже несмотря на то, что вело в то время активную подготовку к контрнаступлению. Повторные атаки врага 26 и 27 октября ему успеха не принесли. К вечеру 29 октября бои стали постепенно затихать[80].
Последний штурм советских плацдармов в Сталинграде Паулюс предпринял 10 ноября 1942 г. Дополнительно к ударным отрядам в бой были введены саперные батальоны, изъятые из пехотных дивизий. Но уже на следующий день, не добившись сколько-нибудь значительного успеха, немецкие подразделения были вынуждены прекратить атаки. Полностью овладеть городом на Волге гитлеровцам так и не удалось, их наступательные возможности были исчерпаны.
К концу октября 6-я немецкая армия во многом утратила свои наступательные возможности. Однако приказа о переходе к обороне для немецких соединений, действующих в районе Сталинграда, не поступало. Тем временем приближалась зима. Фюреру необходимо было решаться на кардинальные шаги. Оставаться в Сталинграде означало подвергать войска опасности поражения в период холодов. Еще свежи в его памяти были воспоминания о катастрофе под Москвой зимой 1941–1942 г. Но оставлять город он был не намерен. Та территория, куда ступила нога германского солдата, должна была в любом случае оставаться за его арийской нацией. Тем более, это требование касалось города, который носил имя вождя вражеской стороны — Сталина. Оставляя 6-ю армию в Сталинграде, чьи растянутые фланги были прикрыты войсками союзников — итальянскими и румынскими соединениями, Гитлер руководствовался не здравым рассудком, а идеей безусловного превосходства рейха над советской стороной. Однако тем самым он подводил обессиленных солдат Паулюса к своей скорой гибели.
Не просто обстояли дела и у частей Красной Армии. Похолодание уже вызвало появление на Волге тонкого льда. Снабжение защитников города значительно ухудшилось. Для переброски в Сталинград вооружения и боеприпасов приходилось использовать самолеты У-2. Как и немецкое командование, Ставка ВГК должна была принять радикальное решение относительно будущей борьбы.
Советское командование все чаще задумывалось над тем, как переломить ход сражения в свою пользу. Находившийся некоторое время в Сталинграде в качестве представителя Ставки генерал армии Жуков убедился, что советским войскам нужно время и дополнительные силы, чтобы организовать удар такой мощи, от которого враг уже не смог бы оправиться. И Жуков и Василевский уже в сентябре 1942 г. поняли, что введение в сражение неподготовленных подразделений, использование резервов по частям ни к чему хорошему привести не может; необходимо подготовить детальный план совершенно новой операции. Судя по отрывочным данным, Василевский поручил офицерам Генштаба проработать вариант охвата с севера и юга группировки противника под Сталинградом, и уже 13 сентября Жуков и Василевский доложили Верховному замысел будущей операции на окружение. Сталин в принципе одобрил его, но сказал, что план наступления необходимо хорошенько обдумать, а главное – не допустить взятия противником Сталинграда. Теперь все зависело от быстроты, слаженности и скрытности перегруппировки советских войск. Резервные соединения под Сталинградом необходимо было сосредоточить таким образом, чтобы обеспечить внезапность контрнаступления. Новый план получил кодовое название «Уран». Основной его замысел — окружение 6-й немецкой армии. Места первоначального прорыва вражеской обороны определялись особенно скрупулезно. Приоритетными считались участки, занятые войсками союзников германского вермахта – румынскими и итальянскими дивизиями, более уязвимыми, чем германские соединения.
Оборона Кавказа
Отстоять Кавказ, не допустить гитлеровцев к стратегическим источникам сырья — прежде всего нефти и хлеба — являлась в ходе войны одной из важнейших, судьбоносных задач, стоявших перед руководством Вооруженных сил СССР и всем советским народом. Оборонительные бои за Кавказ продолжались с 25 июля по конец декабря 1942 г. В развернувшихся сражениях приняли участие войска Южного, Северо-Кавказского и Закавказского фронтов, Черноморский флот, Азовская и Каспийская военные флотилии. Не менее важное значение южным хлеборобным районам России и кавказской нефти придавал Гитлер. Без надежного источника поступления горючего продолжение победоносной войны Германией было под большим вопросом. Захватив же этот регион, третий рейх, по мнению фюрера, мог продолжать боевые действия еще неопределенное количество времени, и, в конце концов, окончательно сломить сопротивление Советского Союза, за которым последовало бы и поражение его западных союзников.
Что касается военно-политического руководства союзников СССР, то с середины 1942 г. они с неослабевающим вниманием следили за гигантской битвой, развернувшейся на юге России. И хотя в Лондоне и Вашингтоне теперь более оптимистично смотрели на возможности сопротивления русских, чем в прошлом году, учитывали возросший военно-экономический потенциал СССР и информацию о характере местности на кавказском направлении, делать какие-либо прогнозы о возможности широкого контрнаступления советских фронтов западные аналитики не решались.
Главные усилия в летней кампании 1942 года верховное командование Германии сосредотачивало в направлении Кавказа (директива ОКВ от 23 июля 1942). Оно замышляло силами группы армий «А» окружить и уничтожить советские войска, оборонявшиеся южнее и юго-восточнее Ростова и овладеть Северным Кавказом. Затем группе «А» предстояло разделиться на две группировки: одной из них ставилась задача обойти Главный Кавказский хребет с запада, захватив Новороссийск и Туапсе, а другой — наступать с востока, захватив Грозный и Баку. Одновременно с обходным маневром намечалось сломить оборону советских войск в центральной части Главного Кавказского хребта и выйти в районы Тбилиси, Кутаиси и Сухуми. Выйдя в Закавказье, противник намеривался парализовать базы Черноморского флота, установить непосредственную связь с турецкой армией, 26 дивизий которой были развернуты у границы СССР, а затем продолжить наступление на Ближний и Средний Восток. План германской операции по захвату Кавказа, основной целью которой было овладение нефтяными ресурсами — месторождениями Грозного, Баку и других источников получил название горного цветка с серебристыми листьями — «Эдельвейс».
Для выполнения этих задач были предназначены войска группы армий «А» (командующий генерал-фельдмаршал В. Лист), в составе 1-й и 4-й танковых, 17-й и 3-й (румынская) армий, части сил 4-го воздушного флота (167 тыс. человек, 4540 орудий и минометов, 1130 танков, до 1 тыс. самолетов). Этой группировке противника противостояли войска Южного фронта (командующий генерал-полковник Р. Я. Малиновский) в составе семи сильно ослабленных в боях общевойсковых армий, насчитывавших 112 тыс. человек, 169 орудий калибра 76 мм и выше, 17 танков и 130 самолетов 4-й воздушной армии. Они держали оборону по левому берегу Нижнего Дона от Верхнекурмоярской до Азова в полосе шириной до 320 км. На восточном берегу Азовского моря и Таманском п-ве были развернуты войска Северо-Кавказского фронта (командующий маршал С. М. Буденный), которому подчинялись в оперативном отношении соединения Черноморского флота и Азовской военной флотилии;
далее на юг до турецкой границы находились соединения Закавказского фронта (командующий генерал И. В. Тюленев). В ходе развернувшихся боев часть сил, имевшихся у Буденного и Тюленева, передавалась другим объединениям, находившимся на острие вражеского удара.
Советские войска перешли к обороне на кавказском направлении, подвергаясь непрерывным ударам противника и поэтому не могли полностью подготовить оборонительные позиции в инженерном отношении. Они испытывали острый недостаток боеприпасов и горючего. Тем временем, германские войска, перейдя 25 июля в наступление, быстро продвигались на юг. Форсировав Дон, они ставили задачу окружить отступающие силы Южного и Северо-Кавказского фронтов. Под натиском превосходящих сил противника войска Южного фронта вынуждены были начать отход на юг и юго-восток. За двое суток немецкие войска продвинулись вперед на 80 км. Их танковые и моторизованные дивизии вышли в задонские и сальские степи и на степные просторы Краснодарского края, создав угрозу прорыва вглубь Кавказа. По сути дела у германского командования имелся замысел повторить на юге России тот успех, который год назад был достигнут ими при разгроме 6-й и 12-й армий в Уманском котле. Моторизованные части вермахта превосходили стрелковые соединения РККА в подвижности и получали возможность обходить их, создавая капканы на пути отступления. Советское руководство, сознавая надвигающуюся угрозу, объединило войска Южного и Северо-Кавказского фронтов — в один Северо-Кавказский фронт под командованием Буденного. По приказу Ставки Буденный разделил свои силы на две оперативные группы — Донскую и Приморскую. Первая под командованием генерала Р. Я. Малиноского (51, 37 и 12-я армии) прикрывала ставропольское направление, вторая, под командованием генерала Я. Т. Черевиченко (18, 56, 47-я армии и отдельные корпуса) — приморское. В ее задачу входила оборона Таманского п-ва и Краснодарского направления. В конце июля войска Закавказского фронта, прикрывавшие частью сил границу с Турцией, приступили к занятию рубежей в северных предгорьях Кавказа по рекам Терек, Урух и перевалам Главного Кавказского хребта, а также к созданию многополосной обороны на направлении Грозный, Махачкала. Находившаяся в районе Грозного 44-я и только что сформированная 9-я армии были объединены в Северную группу Закавказского фронта (командующий генерал-лейтенант И. И. Масленников).
В конце июля советским войскам на кавказском направлении был зачитан приказ наркома обороны № 227, призванный укрепить стойкость частей и остановить натиск врага, но быстрого перелома в обороне добиться не удалось. Противник рвался к Сальску. Ему удалось отрезать основные силы 51-й армии и нарушить ее связь со штабом Буденного. В связи с этим армия была передана в состав Сталинградского фронта[81].
Ставка и командование советских фронтов принимала все меры, чтобы задержать врага. Были взорваны плотины на р. Маныч — разлившаяся вода (шириной несколько километров), равно как и усилившиеся налеты советской авиации не позволили группе «А» завершить задуманный план окружения. Общая военная ситуация на юге России также способствовала некоторой стабилизации положения Северо-Кавказского фронта. В связи с тем, что Паулюсу не удалось сходу прорваться к Сталинграду, верховное командование Германии повернуло 4-й танковую армию на восток, передав ее (без 40-го танкового корпуса) в состав группы «Б»[82].
Но враг, обладавший полной инициативой, по-прежнему был настроен на решительное наступление. Основная ударная сила группы «А» — 1-я танковая армия, использовав разрыв между 51-й и 37-й советскими армиями, в начале августа быстро продвинулась вперед на расстояние более чем 250 км. Противник неумолимо приближался к административным и промышленным центрам Северного Кавказа, в том числе к Майкопу — одному из ключевых объектов добычи и переработки советской нефти. Но немцы, стремившиеся захватить майкопские нефтепромыслы, были разочарованы — отступающие части РККА и подразделения НКВД сумели до такой степени разрушить скважины, что они не смогли быть отремонтированы даже спустя несколько месяцев после их захвата. О том, в какой критической и нервной обстановке происходили эвакуация и уничтожение оборудования сырьевых месторождений, вспоминал бывший в 1942 г. заместителем наркома нефтяной промышленности Н. К. Байбаков, одновременно возглавлявший в то время специальный штаба при наркомате:
«В один из тех жарких июльских дней меня вызвал в Кремль Сталин. Неторопливо пожал мне руку, взглянул на меня спокойно и просто негромким, вполне будничным голосом говорил:
— Товарищ Байбаков, Гитлер рвется на Кавказ. Он объявил, что если не захватит нефть Кавказа, то проиграет войну. Нужно сделать все, чтобы ни одна капля нефти не досталась немцам. И чуть ужесточив голос, добавил:
— Имейте в виду, если вы оставите немцам хоть одну тонну нефти, мы вас расстреляем. …После некоторой паузы снова добавил:
— Но если вы уничтожите промыслы преждевременно, а немец их так и не захватит, и мы останемся без горючего, мы вас тоже расстреляем.
…Я молчал, думал и, набравшись духа, тихо сказал:
.— Но вы мне не оставляете выбора, товарищ Сталин.
Сталин слега остановился возле меня, медленно поднял руку и слегка постучал по виску:
— Здесь выбор, товарищ Байбаков. Летите. И с Буденным думайте, решайте вопрос на месте.
Вот так, с таким высоким отеческим напутствием я был назначен уполномоченным ГКО по уничтожению нефтяных скважин и нефтеперерабатывающих предприятий в Кавказском регионе, а если потребуется, и в Баку».
В ГКО была создана группа специалистов для проведения особых работ на промыслах Северного Кавказа. Было решено при приближении врага демонтировать и вывезти все ценное оборудование, второстепенные предприятия уничтожить сразу, но на богатых нефтью месторождениях вести работы до последней минуты. Задание Ставки и ГКО было выполнено. Страна получала горючее с майкопских нефтяных скважин буквально под носом у противника. А многие ценные промышленные объекты, как, например, Апшеронскую электростанцию, взрывали уже под автоматным и пулеметным огнем врага[83].
Общая ситуация на кавказском направлении в начале августа 1942 г. продолжала ухудшаться. Немцы смогли отбросить соединения левого крыла Северо-Кавказского фронта, где оборонялись 18-я и 56-я армии Приморской группы войск. Подавляющее превосходство в силах (в танках абсолютное) позволило 17-й немецкой армии быстро продвинуться на Краснодар, а 1-й танковой армии на Армавир и Майкоп. Советские части отошли на левый берег р. Кубань, не смогли здесь закрепиться и продолжали отступление. Немецким войскам удалось 5 августа захватить Ставрополь, 10 августа — Майкоп, 12 августа — Краснодар и Пятигорск. Захват Майкопа означал, что противник может быстро прорваться через горы вдоль железной дороги на Туапсе, рассечь надвое Приморскую группировку советских войск. Ставка ВГК резонно опасалась, что падение приморского города Туапсе создаст ловушку для 47-й армии и всех сил в районе южнее Краснодара. Они будут либо уничтожены, либо попадут в плен. В последующем, угрозе захвата — вплоть до турецкой границы — подвергалось все черноморское побережье СССР. Это привело бы к фатальным последствиям для всей обороны Кавказа, охвату главных группировок РККА на этом театре и возможной быстрой потере основных месторождений сырья, без которых продолжение эффективного сопротивления германскому агрессору было под большим вопросом.
Оборона Туапсе — города воинской славы России — стала одним из решающих моментов в обороне Кавказа. В течение нескольких недель героические защитники города сдерживали неоднократно превосходящие силы противника. Враг потерял на этом направлении более 50 тыс. солдат и офицеров, но так и не смог сломить советское сопротивление. Таким образом, попытка группы «А» сходу прорваться к побережью Черного моря (до которого оставалось всего несколько десятков километров) через предгорья западной части Главного Кавказского хребта успеха не имела.
Бои с 25 июля до 17 августа 1942 г. составили первый этап обороны Кавказа. Советские войска потерпели поражение и были отброшены от Дона и Кубани к западным предгорьям Главного Кавказского хребта. Однако постепенно наступление частей вермахта теряло темп. Выйдя к хребту, противник оказался перед новым препятствием, созданным самой природой. Война в условиях горной местности приобрела вязкий, затяжной, но от этого не менее ожесточенный и кровопролитный характер.
Оккупировав значительную территорию Кубани и Ставрополья, противник рассчитывал одновременно получить солидный трофей в виде масштабной эксплуатации ресурсов этого региона. Но широкие планы натолкнулись на жесткую действительность. Кубанская земля, которая дала в годы войны фронту около 1 млн бойцов, буквально горела под ногами у оккупантов. Многие жители ушли в армию добровольцами — они воевали, в том числе в прославленном 4-м Кубанском казачьем кавалерийском корпусе. Оставшееся под пятой захватчиков население в большинстве своем ненавидело злейшего врага. Тысячи людей вступали в партизанские отряды и подпольные группы. Кубань стала местом дислокации Южного штаба партизанского движения, который координировал партизанскую борьбу на всей территории Кавказа. Несмотря на жестокие репрессии, кубанцы при первой возможности совершали диверсии, налеты на гарнизоны противника, уничтожали его транспортные коммуникации. На земле Кубани враг потерял 300 тыс. своих солдат и многие тысячи единиц различной техники. Немецкое командование применяло против бойцов сопротивления и простых граждан звериные меры подавления. На оккупированной территории края в годы войны было расстреляно, задушено газом, повешено 61 тыс. человек, и только в одном Краснодаре уничтожено — 13 тыс. чел., то есть каждый десятый житель города[84].
Чувство святой мести за горе, принесенное на их землю, в равной мере присутствовало у большинства населения северокавказских регионов, в том числе жителей Ставрополья. На фронт в годы войны было направлено 320 тыс. ставропольцев. В крае была развернута одна из самых мощных в стране госпитальных баз, а его продовольственные ресурсы снабжали действующую армию с начала и до конца войны. Мужество и героизм проявили воины–ставропольцы при защите Марухского, Клухорского, Санчарского и других перевалов Главного Кавказского хребта. Когда враг пришел на их землю, они вступали в партизанские отряды и продолжали бороться с оккупантами. 31,6 тыс. мирных жителей края погибло от рук захватчиков[85]. Всего за первые пять месяцев Великой Отечественной войны на Северном Кавказе было призвано в армию 1,2 млн человек — людей из наиболее работоспособной части населения, включая колхозников-механизаторов и трудящихся нефтеперерабатывающих предприятий. Свой воинский долг честно выполняли представители горских народов: дагестанцы, чеченцы, ингуши, кабардинцы, балкарцы, черкесы, карачаевцы и другие. Они не жалели своих жизней ради достижения общей победы над врагом. Тем более обидным для них было принятое ГКО в начале 1943 г. постановление о демобилизации из действующей армии всех подозреваемых в неблагожелательности. На них был навешен ярлык в возможном пособничестве противнику. Но для большинства воинов этот шаг был в высшей степени несправедливым и преступным. Возвращавшиеся с фронта бойцы и командиры (всего за 1943–1944 гг. было демобилизовано 157 тыс. представителей различных национальностей Советского Союза, в том числе около 6 тыс. офицеров) подвергались репрессиям, высылались в малообжитые регионы Средней Азии, другие отдаленные районы СССР. Только чеченцев было отозвано с фронта 710 офицеров и 8134 сержантов и рядовых. Многие из них имели боевые награды, неоднократные ранения. Однако их снимали с довольствия и зачисляли в разряд спецпереселенцев[86]. Одновременно шло переселение на восток сотен тысяч мирных граждан — жителей северокавказских автономных республик, большинство из которых были ни в чем не повинны, а напротив, честно трудились на благо обороны.
Поводом для эскалации репрессивной политики сталинского режима, переселения целых народов стала активизация бандитского подполья на территории Северного Кавказа в 1942– 1943 гг. На этот раз советские военные части и подразделения НКВД боролись против бандитских формирований, организованных националистами на территории Чечено-Ингушской, Кабардино-Балкарской АССР и в ряде других областей Северного Кавказа. Подняли голову и некоторые представители казачества, которые в мирное время, мягко говоря, недолюбливали советскую власть за жестокие методы руководства и насильственную коллективизацию, а теперь желали выступить в составе автономных легионов бок о бок с «победоносным вермахтом». Факты предательства своей общей Родины, действительно, имели место. В северокавказском регионе действовало несколько десятков крупных националистических отрядов, нарушавших снабжение советских войск, убивавших из-за угла бойцов и командиров Красной Армии. Бандиты не скрывали своего желания поскорее встретиться с немецкими частями и вместе с ними вести борьбу против советской власти. Но большинство горцев и казаков в то время не поддержали национальных и религиозных экстремистов. Напротив, они активно участвовали в борьбе с немецкими оккупантами, вступали добровольцами в ряды Красной Армии. Однако за сотрудничество с противником предателей, к сожалению, пострадали и ни в чем не виновные граждане. Многие народности Северного Кавказа (сотни тысяч человек — чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев и других) были высланы в 1944 г. в Среднюю Азию и оставались там, в тяжелых условиях проживания вплоть до конца 1950-х годов. Постепенное возвращение на родину уцелевших переселенцев стало происходить лишь после смерти Сталина, тогда как осуждение политики репрессий против целых народов стало фактом только в конце 1980-х годов.
С 18 августа 1942 г. войска группы армий «А» продолжили свою операцию. Теперь германское командование попыталось организовать наступление в центральной части Кавказского хребта, пробиться через горы западнее Эльбруса и выйти к Тбилиси. Первоначальные успехи 49-го немецкого горного корпуса позволили врагу захватить ряд перевалов на сухумском направлении, сбить со своих позиций малочисленные советские подразделения и выйти к южным склонам Эльбруса. Группа немецких альпинистов из числа военнослужащих горных частей установила 21 августа флаг со свастикой на вершине этого пика. Флаг в последующем был сброшен советскими альпинистами, но в то время главную опасность представлял не этот пропагандистский демарш, а клинья немецких ударов, направленные на Гудауту, Гагры и Сухуми. Германский успех мог привести здесь к окружению нескольких советских армий и выходу в Закавказье.
Реальность прорыва противника на южные склоны Главного Кавказского хребта беспокоила Ставку ВГК. 23 августа в Сухуми был направлен член ГКО Л. П. Берия — могущественный сталинский помощник и беспрекословный исполнитель, равно как и инициатор самых жестких приказов. Советские войска получали значительные подкрепления. Они усиливались подразделениями НКВД и отдельными горно-стрелковыми отрядами, бойцы которых обладали навыками альпинистов. Все это не позволило вражеским частям прорваться к Черному морю, они вынуждены были закрепиться на захваченных горных перевалах.
В конце августа группа армий «А» предприняла попытку прорваться к кавказским нефтяным источникам на своем левом фланге. Танковая армия Клейста, усиленная 40-м танковым корпусом, нанесла удар в направлении Моздока и Владикавказа (Орджоникидзе). Советские части мужественно и умело оборонялись, используя в полной мере условия местности, трудности преодоления противником многочисленных водных преград, лежавших у них на пути, растянутость его коммуникаций. Ожесточенные бои завязались на подступах к р. Терек. Все большую роль в срыве германских планов стала играть советская авиация, получавшая преимущество по мере усиления частей ВВС РККА.
Тем не менее, Клейсту удалось обойти советскую оборону, наступая вдоль Терека и 25 августа овладеть Моздоком. Но взять Владикавказ и продвинуться дальше Малгобека ему так и не удалось. Советские войска 9-й и 37-й армий, а затем своевременно выдвинувшиеся в этот район соединения 44-й армии сдержали вражеский натиск. Попытка немцев выйти к Владикавказу через так называемые Эльхотовские ворота (узкое ущелье, пересекающее Сунженский хребет), наткнулась на развитую систему инженерных сооружений, минные поля и другие заграждения. Организованные советским командованием контрудары вынудили противника остановиться и организовать пополнение для своих потрепанных частей. Советские войска, прикрывавшие грозненское и владикавказское направление были объединены вскоре в Северную группу войск Закавказского фронта под командованием генерала И. И. Масленникова.
В течение всего сентября не прекращались ожесточенные бои за г. Малгобек. После захвата города немцы собирались немедленно использовать для своих нужд нефтяные месторождения, находившиеся в этом районе. Советская сторона стремилась этого не допустить. На подступах к Малгобеку частями РККА и местными жителями были созданы серьезные укрепления. Город непрерывно обстреливался, в нем не затухали пожары, но танковые атаки врага не приводили к желаемому результату. Разрушенные кварталы неоднократно переходили из рук в руки. 5 октября 1942 г. противник все же занял большую часть города, но нефтепромыслы к тому времени были полностью уничтожены. Воспользоваться нефтью врагу так и не удалось. Вскоре бои здесь приобрели позиционный характер. Германское командование, очевидно, потеряло здесь свой последний шанс сходу выйти к главным кавказским нефтяным источникам. Неспособность германского командования одержать быстрые победы в сражениях за Малгобек и Орджоникидзе, по сути, означала срыв его решительной попытки завладеть нефтью грозненских месторождений, а затем выйти к Баку. Вражеское наступление на левом фланге группы «А» захлебнулось на рубеже реки Терек. Гитлер был взбешен. Он приказал начальнику штаба оперативного руководства ОКВ генералу А. Йодлю вылететь на место и разобраться с обстановкой. Вопреки ожиданиям фюрера, Йодль не просто поддержал В. Листа, поставив под сомнение возможность дальнейшего наступления, но и предложил, не дожидаясь худших последствий, отвести назад горный корпус. В ответ на это Гитлер не придумал ничего лучшего, как сместить Листа и самому формально возглавить группу «А». Досталось и Йодлю, которого также чуть не уволили из-за высказанного «ошибочного» мнения. В порыве гнева, фюрер припомнил ему прошлогодние проступки. На совещании с фельдмаршалом В. Кейтелем 18 сентября он заявил, что работа с помощниками не возможна без их лояльности, «не говоря уже о том, что Йодль не крепкий человек. Именно он прошлой зимой выдвинул предложение о разрешении главной задачи, — немедленно отойти назад. Послушавшись его, мы потеряли бы все. И тогда он представлял не мое мнение, которое ему было хорошо известно, а наоборот, мнение слабых личностей — фронтовиков… что совершенно недопустимо». Кейтель, боявшийся ослушаться своего фюрера, поддакивал ему, утверждая, что Йодль, будучи его помощником, неоправданно стал выступать на первый план «брал на себя больше, чем было на него возложено»[87]. Таким образом, Гитлер опять, как и зимой 1941–1942 г., видел причину своих неудач в некомпетентных действиях своих генералов — «слабых личностях», которые только и делают, что предлагают отступать. Вера в свою полководческую исключительность оставалась в нем непоколебимой. Что бы ни случилось, считал он, Кавказ будет покорен. И произойдет это под его гениальным руководством. Однако такая вера не учитывала объективных обстоятельств, сложившихся на фронте, возросшее сопротивление Красной Армии. История сыграла с фюрером третьего рейха злую шутку. Уже после войны выжившие немецкие генералы стали обвинять Гитлера во всех без исключения военных неудачах, стыдливо оставляя за скобками свои собственные ошибки.
Одновременно с немецким ударом на левом фланге группы «А» германское командование продолжило натиск на приморском участке 17-й армии генерала Р.Руоффа. С 19 августа противник повел решительное наступление на Новороссийск. Падение города могло означать новую смертельную угрозу не только для 47-й армии Северо-Кавказского фронта, но и всех советских войск оборонявших западные склоны Кавказского хребта. Попытка немцев прорваться в Новороссийск с ходу не удалась. Но 28 августа, возобновив наступление, германские части сумели прорвать левый фланг советской 47-й армии и 31 августа выйти к побережью Черного моря, захватив Анапу. Советские соединения, отступая, оставили Таманский полуостров, куда 1–2 сентября высадились шесть немецких дивизий из Крыма. Ставка ВГК принимала экстренные меры для переброски резервов и пополнения войск, но перевес в силах оставался на стороне наступавших. С целью улучшения управления войсками советское командование пошло на ряд преобразований. Так, Северо-Кавказский фронт был преобразован в Черноморскую группу войск Закавказского фронта (12,18, 47, 56-я армии) под командованием генерала Я. Т. Черевиченко. Командующим фронтом остался генерал И. В. Тюленев[88].
Число защитников Новороссийска не превышало тогда 15 тыс. чел. В сентябре бои за Новороссийск достигли крайней степени ожесточения. Следствием удара 5-го армейского корпуса немцев стал отход советских частей из большей части этого города-порта. Но войскам 47-й армии удалось закрепиться в заводских районах и блокировать дорогу вдоль моря. Попытка обойти советскую оборону через горы, предпринятая 3-й румынской горной дивизией, окончилась в 20-х числах сентября полным провалом. Дивизия была окружена и почти полностью уничтожена. Силы немцев и их союзников неуклонно истощались, они вынуждены были вести ожесточенные бои с контратакующими соединениями Красной Армии, а в дальнейшем и с героическим десантом, высадившимся с моря на подступах к Новороссийску и занявшим небольшую территорию, прозванную вскоре «Малой землей».
Встретив упорство советских войск на приморском направлении, германское командование решило в начале октября попытаться отрезать советскую группировку новым ударом через западную часть Кавказского хребта. Привлеченные к наступлению горные егеря смогли выйти в тыл 18-й советской армии и нанести ей серьезный урон. Неудачные действия командования Черноморской группы и выход врага на ближние подступы к городу Туапсе привели к смене командования. Вместо Черевиченко Черноморскую группу теперь возглавил генерал И. Е. Петров, ранее оборонявший Севастополь, а на должность командующего 18-й армии был назначен генерал А. А. Гречко. Подход свежих советских частей позволил стабилизировать ситуацию под Туапсе, где бои приняли позиционный характер.
Заключительный акт драматических сражений на фронте наступления германской группы «А» на владикавказском и грозненском направлениях развернулась в конце октября 1942 г. Следует отметить, что советское командование весьма опасалось немецкого удара с плацдарма на южном берегу Терека в районе Малгобека. Ставка планировала провести собственную операцию силами 9-й армии с целью отбросить врага и восстановить линию фронта по течению реки. Однако противник опередил командование РККА. С 25 октября румынские, а затем и немецкие части начали наступление западнее Моздока и Малгобека на Нальчик. Фланг 37-й советской армии оказался под угрозой, и она вынуждена была отойти. 27 октября пал Нальчик, а в начале ноября немецким танкам оставалось преодолеть всего 15 км, чтобы ворваться во Владикавказ. Захват этого города мог означать, что вермахт овладеет ключами к важнейшей транспортной магистрали Кавказа — Военно-Грузинской дороге. Положение было критическим. Но именно в этот момент командующий Закавказским фронтом Тюленев приказал перебросить на владикавказское направление стрелковый корпус, танковую бригаду, а затем и другие соединения, ранее предназначенные для нанесения контрудара по немецкому плацдарму южнее Терека. Начавшееся 6 ноября советское наступление привело к крупному успеху. Одна из германских танковых дивизий была охвачена с трех сторон. Для отступления у нее оставался лишь узкий коридор. Бросая технику и вооружение, немцы поспешно бежали. Разгром ударных сил группы «А» был более чем очевидным — враг оставил на поле боя около 150 танков, более 2,3 тыс. автомашин, другое имущество. Оседлать транспортную коммуникацию, ведущую в Закавказье и выйти к основным нефтепромыслам, германскому командованию не удалось. 1-я танковая армия вермахта вынуждена была перейти к обороне.
К концу декабря 1942 г. войска вермахта и их союзников окончательно исчерпали свой наступательный пыл в сражениях за Кавказ. Враг удерживал занятую важную в хозяйственном и стратегическом отношении Кубанскую область, но выполнить поставленные перед ними задачи по захвату важнейших нефтяных месторождений СССР и прорыву на Ближний Восток он оказался не в состоянии. Немцев не пропустили через горные перевалы в Закавказские республики, а ущелья, ведущие к Черноморскому побережью, прежде всего к Туапсе, были надежно блокированы. Соединения вермахта и его союзников были вынуждены вести тяжелые позиционные бои со все более усилившимися советскими армиями. Не оправдались также надежды гитлеровцев на то, что кавказцы отпадут от семьи народов Советского Союза и охотно станут помогать Германии в «освобождении» от коммунистического режима. Мудрость большинства горцев в полной мере проявилась в критической ситуации. Они понимали, что победа нацистского рейха ведет не только к гибели советского строя, но и порабощению, превращению в рабскую силу для рейха всех граждан СССР. Их выбор был защищать общую Родину.
К началу декабря 1942 г. Красная Армия нанесла большой урон войскам немецкой группы армий «Б» под Сталинградом и окружила ее 6-ю армию. Немецкое командование, остро нуждавшееся в пополнении своих сил на сталинградском направлении, приняло решение перебросить туда часть сил группы армий «А». 28 декабря главное командование сухопутных войск (ОКХ) отдало группе армий «А» приказ начать отступление до линии Армавир — Сальск и там соединиться с войсками 4-й танковой армии, действовавших южнее Сталинграда. При отступлении немецким войскам предписывалось применять тактику «выжженной земли», т.е. уничтожать и разрушать города, села, мосты, железнодорожные пути, вывозить с собой награбленное имущество и продовольствие. 1 января 1941 г. начала отступление 1-я танковая армия вермахта.
В тот же день окончился оборонительный и начался наступательный период битвы советских войск за Кавказ. По решению Ставки ВГК войска Южного фронта генерал-полковника А. И. Еременко (создан 1 января 1943 г. на базе Сталинградского фронта), развивая успех контрнаступления под Сталинградом, перешли в наступление главными силами из района Котельниковский на Ростов и частью сил на Тихорецк. Черноморская группа войск Закавказского фронта получила приказ наступать навстречу войскам Южного фронта — на Краснодар и Тихорецк. Северная группа войск (с 24 января преобразована в Северо-Кавказский фронт) должна была преследовать немецкую 1-ю танковую армию и наносить ей удары, наступая в направлении Моздок, Прохладный, Армавир.
Подвиг бойцов и командиров Красной Армии, представителей многих национальностей, грудью вставших на защиту своей страны в ходе оборонительных операций 1942 года, сорвал немецкий план порабощения Кавказа («Эдельвейс»), не позволил германскому командованию в самый критический период обороны Сталинграда перебросить туда дополнительные силы. Переход германских войск к обороне на Кавказе, а также начавшееся успешно советское контрнаступление под Сталинградом означало, что в Великой Отечественной войне произошли коренные изменения, настал кульминационный и поистине переломный момент в смертельной борьбе против фашистской агрессии. Последующее быстрое продвижения Красной Армии от берегов Волги на запад создавало для Красной Армии хорошую возможность для нанесения врагу решительного поражения на всем южном фланге советско-германского фронта. В перспективе оно вело не только к быстрому отступлению немецкой группы армий «А», но и ее полному уничтожению в гигантском котле на Северном Кавказе, полях Кубани и Ставрополья. Такая задача казалась Ставке ВГК вполне выполнимой накануне нового 1943 года.
«Незнаменитые» наступательные операции: Ржевско-Сычевская операция и попытки деблокады Ленинграда в 1942 г.
Под Ржевом
В конце июля 1942 г. группа армий «Центр» (под командованием генерал-фельдмаршала Г. фон Клюге) силами 9-й армии продолжала крепко удерживать стратегически важный плацдарм — так называемый Ржевский выступ, линия фронта которого проходила севернее и восточнее Ржева, восточнее Погорелого Городища и Быково. Сдавать его немцы не собирались.
Очевидной целью командования Красной Армии было не дать врагу возможности использовать свой плацдарм в наступательных целях и постараться нанести летом 1942 г. группе армий «Центр» серьезное поражение. Как уже говорилось, центральный участок фронта занимал в мыслях Ставки ВГК особое место. Нельзя было исключать возможность, что немцы, воспользовавшись неудачами Красной Армии на южном фланге, не попытаются взять советскую столицу неожиданным фронтальным ударом. Для Сталина все еще свежи были воспоминания осени 1941 г., когда враг стоял в нескольких десятках километров от Москвы. С другой стороны, германское командование, перенеся свои основные усилия на юг — под Сталинград и на Кавказ, считало, что рано или поздно группа армий «Центр» возобновит свое разящее наступление на Москву по одному из кратчайших путей и поставит тем самым заключительную точку во всей войне. Центральная группировка немцев продолжала оставаться наиболее многочисленной.
Исходя из остающейся цели облегчить участь частей Красной Армии, отступающих к Дону и Кавказу, сковав германские силы в центре советско-германского фронта, а также сложившихся на Западном направлении условий для наращивания натиска на врага, к концу июля Ставка ВГК спланировала осуществить крупную наступательную операцию, получившую название Ржевско-Сычевской. Новое предприятие поручалось войскам сразу двух фронтов — левого крыла Калининского и правого крыла Западного, которые нацеливались против сил группы армий «Центр», действовавших всего примерно в 200 км к западу и северо-западу от Москвы. Операция, проведенная с 30 июля по 23 августа 1942 г., вписывалась в рамки советской «большой стратегии», хотя условия для ее проведения летом 1942 г. были далеки от идеальных. Здесь на пересеченной местности, имеющей много естественных преград (рек, речушек, перелесков, высот, болот) была выстроена глубокоэшелонированная оборона немцев, пожалуй, еще более прочная, чем на южном фланге группы фон Клюге. На пути наступающих войск находились окопы полного профиля, ряды колючей проволоки, сеть минных полей и многочисленные опорные пункты. К концу июля положения советских войск на юге России ухудшилось. Именно туда направлялись основные резервы и боевая техника. Неоднократно подтвержденное мужество бойцов и командиров РККА по-прежнему не подкреплялось надежным прикрытием с воздуха. Поэтому исходные данные для новой операции Красной Армии западнее Москвы, в основном, оставались теми же, что были в начале месяца. Это не сулило наступающей стороне легких боев, а, напротив, грозило большими потерями.
С другой стороны, советское командование сделало все возможное, чтобы сосредоточить теперь на участках прорыва более мощные силы и средства. Современные исследования подтверждают, что в полосах наступления ударных группировок фронтов было достигнуто не просто «более чем двойное», а значительное превосходство над противником в людях и артиллерии. Ржевский историк С. А. Герасимова пишет, что к обычно упоминаемым войскам 30-й, 29-й, 31-й, 20-й армий Западного и Калининского фронтов, принявшим участие в операции, следует приплюсовать еще 5-ю и 33-ю армии, хотя они наступали лишь на отдельных участках своих полос. В операции участвовали также соединения и части 2-го гвардейского кавалерийского, 6-го и 8-го танкового, 8-го гвардейского (в полосе 20-й армии) и 7-го гвардейского стрелковых корпусов, которых поддерживали 1-я и 3-я воздушные армии. Советская группировка в начале августа насчитывала более 486 000 человек и располагала 1715 танками. «Артиллерийская плотность» в полосе наступления 33-й армии достигала 40–45 орудий на 1 км, 20-й армии — 122 орудия, на Калининском фронте — 115– 140 стволов[89].
Советское командование учитывало, что войска левого крыла Калининского фронта генерал-полковника И. С.Конева (30-я и 29-я армии) и правого крыла Западного фронта генерала армии Г. К.Жукова (31-я и 20-я армии) занимали по отношению к немецкой 9-й армии охватывающее положение. Общий замысел операции предусматривал ударами войск этих смежных крыльев на ржевском и сычевском направлениях разгромить основные силы 9-й армии и ликвидировать Ржевский выступ. Перед войсками советских фронтов ставились первоочередные конкретные задачи — овладеть городами Ржев и Зубцов, выйти на рубеж рек Волга и Вазуза, обеспечив его надежную защиту. Главная роль в осуществлении задуманного плана должен был сыграть Западный фронт.
Командующий Западным фронтом Г. К. Жуков уделял особое внимание скрытности сосредоточения ударных группировок 20-й и 31-й армий. Был приведен в действие специальный план мероприятий, призванный обеспечить в тайне развертывание главных сил. Все передвижения и смена войск на передовых позициях должны были производиться незаметно, как правило, ночью. Частям, предназначенным для первой атаки, давались всего сутки для занятия исходного положения, изучения местности и освоения предстоящих задач. Выгрузка боевой техники из железнодорожных составов производилась вдали от линии фронта, из-за опасения раскрыть замысел перед вражеской разведкой. Необходимые документы по плану операции писались от руки, все основные распоряжения отдавались устно, лично командующим армиями[90].
30 июня первыми в наступление перешли войска Калининского фронта. 30-я армия прорвала первую полосу обороны противника, но затем встретила упорное сопротивление врага и втянулась в упорные бои на подступах к д. Полунино. Действия 29-й армии успеха не имели[91]. Войска Западного фронта начали свое наступление 4 августа. Как отмечалось в специальном докладе штаба фронта, нашими войсками в 6:15 утра, внезапно, всей массой артиллерийского и минометного огня и РС (кроме М-30) был нанесен 10-ти минутный удар по узлам связи с целью нарушения управления вражескими подразделениями. Затем артиллерия приступила к разрушению и уничтожению переднего края противника методическим обстрелом, продолжительностью 45 мин. Считалось, что «такая мощная подготовка нанесла громадные потери противнику, что позволило пехоте и танкам уверенно, без больших потерь и быстро двинуться в атаку». Уже в первом эшелоне было задействовано две танковые бригады, которые поддерживали безостановочное продвижение вперед, даже ночью. Как дань букве и духу приказа НКО № 227 в наступающих частях предпринимались специальные меры, а именно: «Для предупреждения отставаний отдельных подразделений, — говорилось в докладе, — и для борьбы с трусами, паникерами за каждым атакующим батальоном первого эшелона на танке следовали особо назначенные Военным Советом армии командиры. В итоге всех предпринятых мер, войска 31-й и 20-й армий успешно прорвали оборону противника»[92].
Особенно ожесточенные бои шли за д. Погорелое городище, которую немцы за предыдущие месяцы превратили в крупный опорный пункт. Буквально каждый метр земли перед деревней был пристрелян противником, не помышлявшим даже о тактическом отступлении. Достаточно сказать, что боевые действия 20-й армии на первом этапе наступления получили название «Погорелогородищенской операции». И все же советскому командованию удалось взломать германскую оборону, бросив в сражение крупные силы пехоты, кавалерии и танковые бригады. В полосе армии действовало более 250 танков, включая 21 тяжелый и 82 средних[93].
Красноармейцы дружно поднимались в атаку и шли в лоб на позиции противника. Правдой войны является то, что их не нужно было подстегивать или угрожать пулей со стороны заградительных отрядов. В частях наблюдался большой духовный подъем. В отчете о политико-моральном состоянии 20-й армии в период операции говорилось, что в подразделениях присутствовало «беспредельное стремление к скорейшему истреблению ненавистного врага». «Весь личный состав армии от бойца до командарма (генерала М. А. Рейтера. — М. М.) горели нетерпением и ждали сигнала к решительному и беспощадному бою». Факт, что перед самым наступлением военнослужащим еще раз разъясняли смысл приказа Сталина № 227, а представители Военного совета и политодела армии лично выезжали в корпуса и дивизии «для руководства на местах». Но они, в то же время, отмечали, что солдаты стали теперь «злее и беспощаднее», «научились по-настоящему ненавидеть немецко-фашистских захватчиков». Бои по прорыву вражеской обороны в полосе 20-й армии дали сотни примеров мужества, отваги и героизма. Отличились разведчики и подразделение автоматчиков 923-го стрелкового полка 251-й дивизии, которые, «не дожидаясь конца артподготовки, ворвались в глубокий тыл врага и неожиданно смелым броском вышли на железнодорожный и деревянный мосты через р. Синяя, не дав противнику их взорвать и отрезав ему путь отхода». Минометчик Леванский, «несмотря на серьезное ранение, ни за что не согласился уйти с поля боя и продолжал разить врага огнем своего миномета». Сержант Михалев уничтожил пулеметную точку немцев метким броском гранаты. Чтобы только перечислить подвиги наших солдат уже в первый день наступления под Ржевом, не хватило бы и толстой тетради. Правдой было и то, что в атаку вместе с красноармейцами шли политические работники, деля вместе с ними и славу и, если придется, смертельную пулю. Стоит задуматься и над следующими цифрами: только по одному 2-му гвардейскому кавалерийскому корпусу за время операции заявления о приеме в компартию подало 8200 чел., тогда как сама парторганизация выросла за то же время на 378 чел. Коммунисты шли в бой первыми и в ходе отчаянных атак, как правило, первыми и погибали. В то же время в кавкорпусе ничтожно малым оставалось число «аморальных», как тогда отмечалось, явлений. Было выявлено всего два случая самострелов[94].
Ненависть советских солдат к захватчикам усиливалась при виде жуткой картины разрушений и смерти в освобожденных населенных пунктах. Они убеждались, что враг пришел на их землю не просто как захватчик, но и зверь, расчищавший себе жизненное пространство путем уничтожения коренного населения. Газета «Красная Звезда» писала в сентябре 1942 г.: «Политика истребления русского населения проводилась в Погорелом городище систематически и методично. В октябре 1941 г. здесь проживало 3076 человек. 37 человек расстреляно немцами. 94 человека сожжены живьем за сопротивление „эвакуации“ в германский тыл. 60 человек увезены в рабство в Германию. 1980 человек умерло от голода и болезней. В живых осталось 905 человек. Так современные варвары осуществляют свою злодейскую программу истребления русского народа»[95].
К утру 5 августа войска Западного фронта завершили прорыв главной полосы обороны, а к исходу суток расширили его до 30 км по фронту и 25 км в глубину. Вечером 5 августа Жуков почувствовал, что дело, кажется, удается, и речь может идти о крушении всей немецкой обороны на этом направлении. Для развития успеха он решает ввести в бой с 6 августа подвижную группу фронта — два танковых и один кавалерийский корпус. Слова его приказов напоминают более призыв оперативно воспользоваться ситуацией: «Усилиями 31-й и 20-й армий фронт противника прорван на участке Алешево, Семеновское. Наши войска развивают успех в западном и юго-западном направлении… 2-му гв. КК в ночь на 6.08.42 войти в прорыв… С выходом в назначенный район командиру корпуса быть готовым объединить под своим командованием 8 ТК, 11 тбр и действовать на юг с задачей овладеть районом Вязьма». В половине третьего ночи 6 августа он торопит подчиненных командармов: «31-й армии — продолжать наступление и к исходу 8.08.42 главными силами выйти на фронт Ржев, Дубровка… 20-й армии — развивать наступление в направлении Сычевка. К исходу 7.08.42 овладеть районом Сычевка». В связи с общностью задач Западного и Калининского фронтов в 20 ч 30 мин 5 августа Жуков получил указание Ставки ВГК взять руководство всем сражением в районе Ржева в свои руки. Генерал И. С. Конев должен был срочно прибыть к нему «за получением личных указаний и распоряжений по дальнейшему ведению операций»[96].
Однако надежды на быстрый успех Жукову вскоре пришлось оставить. У врага были значительные резервы, чтобы локализовать советский прорыв. Командование группы армий «Центр», под угрозой потери Ржевского выступа, усилив 9-ю армию тремя танковыми и двумя пехотными дивизиями, нанесло контрудар из районов Сычевки и Карманово в общем направлении на Погорелое городище. 7–10 августа на подступах к р. Вазуза и Гжать происходило крупное встречное сражение. С обеих сторон в нем участвовало до 1500 танков и почти все войска, предназначенные для действий на зубцовском, сычевском, и кармановском направлениях. 8 августа в сражение была введена 5-я армия Западного фронта с задачей прорвать вражескую оборону на всю тактическую глубину и соединиться с левофланговыми частями 20-й армии.
Совсем не гладко, как того хотелось бы, шли дела на Калининском фронте. Вызывает удивление, почему общее руководство операцией не было отдано Жукову с самого начала, а было оформлено директивой Ставки только 5 августа? Войска Конева продвинулись к тому времени вперед всего на несколько километров. Причиной тому была организация удара фронта как раз по наиболее плотным оборонительным порядкам и сильным укреплениям врага севернее Ржева. «Противник, разбитый в своей тактической глубине, — отмечал Конев, — воспользовавшись неблагоприятными условиями погоды, закрепился на оборонительной Ржевской полосе». Однако генерал не терял пока надежды сломить вражеское сопротивление. Ведь только в одной его 30-й армии находилось 13 стрелковых дивизий, три бригады, 13 артиллерийских полков РГК, 16 дивизионов и три гвардейских полка «Катюш». К исходу 8 августа он требовал «закончить перегруппировку и перейти в решительное наступление с задачей овладеть г. Ржевом и переправами р. Волга»[97]. Однако эта задача выполнена не была. Как назло, самое начало наступления обоих советских фронтов было ознаменовано мощными ливнями, донельзя развратившими и без того ужасные проселочные дороги, ведущие к передовой. Потоки воды с неба были выгодны немцам, так как они держали в своих руках надежные линии коммуникаций и уже давно глубоко зарылись в землю. Дождь мешал и эффективному применению советской артиллерии, которая на главных направлениях значительно превосходила противника.
Теперь в приказах Жукова заметно раздражение по поводу топтания на месте. Он ругает и наставляет своих генералов: «Противник сейчас собирает со всего фронта отдельные подразделения, части и соединения и стремится, во что бы то ни стало, остановить наше продвижение и ликвидировать образовавшийся прорыв». Командующий констатировал упорство врага на подступах к Ржеву, Сычевке, Карманово и сетовал на то, что «наши части, особенно левофланговая группировка 20-й армии, за последние два дня действуют исключительно пассивно и, не продвигаясь вперед, дают врагу время на организацию сопротивления». «Особенно преступно, — по его мнению, — действовали 6-й и 8-й танковые корпуса, группа Армана и группа Бычковского, которые, болтаясь в тылах пехоты, неся потери, не выполнили до сих пор ни одной поставленной задачи». Приказ Жукова, отданный в ночь на 8 августа, требовал в течение двух суток освободить н.п. Сычевка, Зубцов, Карманово, и «во взаимодействии с Калининским фронтом захватить Ржев»[98].
В течение последующих нескольких дней бои продолжались с неослабевающей силой. Советские войска несколько потеснили, но не опрокинули врага. Однако они отразили его контрудары танковых дивизий (46-го танкового корпуса) в районах Карамзино и севернее Карманово, нанесли противнику большие потери, и вынудили его перейти к обороне на рубеже р. Вазуза, р. Гжать, с. Карманово. Используя успех Западного фронта, 30-я и 29-я армии фронта Конева только во второй половине августа вышли на ближайшие подступы к Ржеву. 23 августа войска 31-й армии при помощи 29-й армии освободили Зубцов, а войска 20-й армии — Карманово. На этом наступательные возможности советских войск были исчерпаны и они перешли к обороне.
Могли ли советские войска добиться тогда большего успеха? Документы фронтового командования и Ставки ВГК показывают, что вряд ли это было осуществимо. Сама природа была против наступающих! В начале операции, как уже говорилось, выпал сильный ливень. Полоса боевых действий представляла собой лесисто-болотистую местность. «Этот район, отмечали инженерные службы, больше годится для сильной обороны, а как стык двух фронтов усиленно заграждался от переднего края далеко в глубину». Саперам приходилось не только разминировать территорию и сопровождать наступающие части, но и постоянно поддерживать в приемлемом состоянии дороги, по которым к передовой подтягивалась техника. Жердевая выстилка и грунтовые участки дорог после прохода танков приходили в полную негодность. Их необходимо было снова и снова восстанавливать. Значительные силы и время отрывались для наведения переправ и переходов через многочисленные реки, ручьи, болотца. В целом, на усиление сапер только в 20-й и 31-й армиях было брошено не менее 2-х дивизий[99].
Немцы проявляли значительное искусство в обороне. К тем препятствиям, которые были описаны выше, они присовокупили хитрый способ уничтожения живой силы РККА. Как летом 1942 г., так и позднее, противник создавал т.н. «систему бастионов». Через каждые 100–150 метров прямолинейных траншей ими отрывались треугольные выступы («бастионы»), направленные острым углом в сторону атакующей советской пехоты. Там же находилась огневая точка (пулемет), врезанная заподлицо в землю. Она была предназначена для ведения огня только вдоль траншеи, когда в нее врывались наши бойцы. Подступы к огневой точке надежно минировались. Артиллерийскую подготовку РККА солдаты вермахта пережидали в укрытиях, но как только впереди показывались атакующие подразделения, они занимали свои места в передовых траншеях и открывали шквальный огонь. Как правило, атаки на такие укрепленные пункты вели к большим потерям. Тем не менее, советские войска научились их брать и добиваться поставленной цели. Залогом победы здесь были быстрота и натиск. Бросок в направлении вражеских окопов должен осуществляться еще до окончания артподготовки; затем следовала короткая яростная схватка с еще не опомнившимся врагом[100].
Осуществление Ржевско-Сычевской операции позволило советским войскам продвинуться вперед на 30–45 км, срезать часть плацдарма противника на левом берегу Волги в районе Ржева, сковать крупные силы группы армии «Центр» и вынудить немецкое командование перебросить в район операции 12 своих дивизий с других участков. Готовившиеся к переброске на Сталинградское направление три танковых и несколько пехотных дивизий из состава группы фон Клюге были обескровлены в боях; 10 пехотных, три танковых и три моторизованных дивизии врага потеряли 50–80% личного состава. В танковых дивизиях осталось всего по 20–30 боевых машин — из 150–160[101].
Вышеназванные результаты достались Красной Армии дорогой ценой. По официальным данным, в Ржевско-Сычевской операции советские войска потеряли с 30 июля-23 августа 1942 г. — 193 683 чел. убитыми, ранеными и пропавшими без вести[102]. Однако некоторые историки считают эти данные заниженными. Дело в том, что после 26 августа, когда И. С. Конев был назначен командующим Западным фронтом вместо генерала армии Г. К.Жукова[103], а 30-я и 29-я армии были переданы в состав Западно-го фронта, бои за Ржев продолжились. Город оставался одним из главных остовов всей германской обороны на центральном направлении и притягивал к себе все новые силы противоборствующих сторон. В конце сентября штурмовые советские подразделения, прогрызая вражеские позиции, ворвались в северную часть Ржева. Бои с контратакующими немецкими частями приняли невиданный накал. Однако подоспевшие резервы группы армий «Центр» сумели восстановить положение. Город освободить не удалось.
Указывая на то, что бои Западного и Калининского фронтов на ржевском направлении продолжались вплоть до конца сентября 1942 г., современные исследователи увеличивают цифру потерь РККА в Ржевско-Сычевской операции 1942 г. (30, 29, 31, 20, 33 и 5-й советских армий) до 291 тыс. чел. (в итоговую цифру не входят потери корпусов и воздушных армий). В целом, таким образом, говорится о 300 тыс. советских военнослужащих, павших в тот период, тогда как только за август потери в танках в сумме составляют 1085 ед. Относительно потерь немцев имеются только промежуточные данные, но, очевидно, что они были также очень большими. В общей сложности 16 немецких дивизий, действующих на этом участке потеряли, по некоторым оценкам, от 50 до 80% личного состава. Так, только одна 6-я пехотная дивизия за период 1–22 августа потеряла 3294 человека. Весьма значительными были и потери противника в танках и авиации[104].
Причины столь больших советских потерь при относительно скромном продвижении вперед являются сегодня предметом многочисленных дискуссий среди историков. Природный и погодный факторы, инженерное оборудование вражеских позиций и другие отмеченные обстоятельства, конечно, сыграли свою роль. Нельзя упускать из виду, что Красной Армии под Ржевом противостояли закаленные солдаты вермахта, которые сумели в значительной мере оправиться от зимних поражений и получили серьезные подкрепления. Кроме того, их боевой дух значительно укрепился после начала германского наступления на Кавказ и Сталинград, где уже были достигнуты крупные победы, а также фактом отсутствия в Европе второго фронта. Все это приводило немцев к мысли о том, что победа не за горами, впереди последнее напряжение сил, за которым последует победа.
Успехи на южном фланге ободряюще сказывались на политико-моральном состоянии противника на всем советско-германском фронте, в т.ч. в полосе группы армий «Центр». «Воинственное настроение и уверенность в победе Германии, — отмечалось в информации с фронта Жукова, — особенно характерно для оболваненного геббельсовской пропагандой молодых возрастов 1922 и 1923 г.р.». Типичным представителем этого слоя был военнопленный немец Вальтер Реммер, который при допросе в советском штабе показал: «В настоящее время в армию прибывает молодежь 1923 г.р. Дисциплина в армии строгая. Случаев отказа от выполнения приказов, дезертирства, самострелов пленный не знает. Солдаты получают в день 500 г хлеба, 50 г колбасы, иногда масло или мед, днем суп и вечером чай. Многие солдаты, хотя и недовольны питанием, но своего недовольства не высказывают». (Это при том, что многие наши подразделения на передовой, особенно в период распутицы, вынуждены были неделями сидеть на сухарях и воде. — М. М.). В. Реммер признавал, что «между собой солдаты говорят, что Красная Армия сражается упорно, но большинство верят в победу немцев, которые сейчас наступают на юге. У Красной Армии не хватает продовольствия, и она должна будет сдаться. Солдаты уверены, что война закончится в этом году, и что также думает все население Германии». О втором фронте Реммер слышал, но «офицеры объявили солдатам, что этому не следует придавать значения». В тайне немецкие солдаты обсуждали, что «война никому не нужна». Но «раз она начата, то ее нужно довести до конца. Сопротивление властям не возможно. Кто виновен в войне, сказать трудно. Говорят, — продолжал пленный, — что наше жизненное пространство мало и не обеспечивает материально наш народ. Англия отказалась дать нам колонии и договорилась с СССР о нападении на Германию. Большинство немцев уверено, что война ведется именно по этой причине». Показания В. Реммера было характерно для большинства солдат из гитлеровской молодежи, прежде всего немцев по национальности. Однако военнопленные австрийцы, литовцы, чехи, поляки, которые также воевали на стороне вермахта, заявляли, что воевать не хотели, но их обманным путем (заставляя подписывать пустые страницы, которые потом оказывались согласием вступить в армию) призвали на фронт[105]. Так ли это было на самом деле, остается вопросом. Ясно одно, что пока Германия одерживала победы никаких особых протестных настроений в частях вермахта, где воевали не только немцы, но и представители других европейских наций, не было.
Оптимистические ожидания германских солдат свидетельствовали о том, что вражеская военная машина еще очень сильна. Но появлялись и факты другого рода, что руководство рейха теперь ставит на кон все, что оказывается под рукой, бросает в огонь сражений те ресурсы, без которых немыслимо вести затяжную войну. Для нашего командования таким свидетельством стал трофейный документ, захваченный на немецких позициях под Ржевом в августе 1942 г. Это было письмо генерала фон Вотмера, «руководителя» (как была переведена его подпись. — М. М.) «трудовой повинности». Генерал обращался к гитлеровской молодежи. Очевидно, что адресатом письма было одно из подразделений «службы труда рейха»[106], которое работало на строительстве оборонительных укреплений в немецком тылу, но в ходе советского наступления было вооружено и брошено в бой, чтобы закрыть образовавшуюся брешь.
Германский генерал писал, что получил призывы о помощи и предпринял все необходимые шаги в этом направлении. «Хотя я знаю, что эти продолжавшиеся 9 дней бои превосходят силы молодежи, — отмечал он, — я принужден требовать выдержки и стойкости. Нельзя допустить того, чтобы фюрер оттянул из решающей битвы на юге ударные дивизии для того, чтобы спасти положение здесь. Этими мыслями каждый командир и солдат должны быть проникнуты, и я прошу и ожидаю, что люди из корпуса фюрера охвачены одной мыслью: мы помогаем нашей стойкостью добиться победы на юге для победы в войне. Вследствие этого все невозможное должно стать легким… Я прошу вас оставить все свои заблуждения и самоуспокоенность, потому что мы переживаем трудные часы. Я прошу вооружить всех. Наконец, я прошу еще раз, невзирая ни на что, закопаться в землю, не отступать и не колебаться. Не сдавать ни пяди земли и отступать в случае и лишь только по приказу»[107].
В документе заметны следы и тональность приказа самого Гитлера, отданного еще в декабре 1941 г., в период зимнего кризиса германской армии под Москвой — так называемого приказа «держаться». Теперь, в августе 1942 г., немцам, попавшим в тяжелую ситуацию под Ржевом, вновь запрещалось отступать без приказа. В резолюции, наложенной на препроводительной к этому письму, командующий Западным фронтом Г. К. Жуков подчеркнул: «Военный совет фронта обращает внимание на исключительно серьезное положение, создавшееся у противника в связи с нашими наступательными операциями. Переписка, по-видимому, относится к корпусу немецкой молодежи, занятой в тылу на оборонительном и дорожном строительстве. Речь идет о ее вооружении и удержании с помощью этих необученных солдат-молокососов обороны. Учтите это крайне тяжелое положение противника». Немецкий трофейный документ предусматривалось довести до командования армий, дивизий и других соединений для использования информации в целях усиления натиска на врага[108].
Однако осуществить намечавшийся разгром не удалось. В снижении ударной мощи частей РККА существенную роль сыграли ошибки, допущенные самим советским командованием еще на этапах планирования и подготовки операции. Разведка Западного и Калининского фронтов имела данные о системе немецких укреплений в основном на только на переднем крае. Несмотря на то, что на отдельных участках (в районах главных атак) плотность нашего артиллерийского огня достигала 170 орудий на километр фронта, а в 20-й армии — целых 266 орудий[109], командование РККА не до конца осознавало, что именно здесь — на ржевском плацдарме — враг имеет наиболее плотные боевые порядки (менее 10 км линии фронта на одну пехотную дивизию), оснащенные всеми средствами инженерного оборудования позиции, развитые в глубину от 80 до 100 км. Играли свою роль и другие факторы: излишняя концентрация живой силы в местах прорыва, не подкрепленная техникой и огнем, что вело не к достижению успеха, а лишь к большим потерям; поспешное (без должной поддержки и разведки) введение в бой танковых соединений, использование бронемашин в лесистой местности; отсутствие плотной поддержки со стороны своей авиации, вылившееся в ходе развития операции в господство люфтваффе на поле боя; ненадежная радиосвязь. Противник, заставляя наши войска вязнуть в боях за укрепленные районы, быстро перебрасывал резервы (включая танковые дивизии) на угрожаемые направления и наносил болезненные контрудары.
Действия советских танковых корпусов в Ржевско-Сычевской операции оставляли не лучшее впечатление. Бронированные кулаки Западного фронта сгорали от огня противотанковой артиллерией врага, гибли в ожесточенных схватках с танковыми соединениями вермахта. Советским войскам не хватало ремонтных мастерских, а имевшиеся часто были в неудовлетворительном состоянии. Многие танки выходили из строя еще до боя, тем самым повторялся печальный опыт 1941 года. Потеря большого количества танков вскоре после введения их в прорыв вынудила Жукова 11 августа 1942 г. издать жесткий приказ, адресованный начальнику автобронетанковыми войсками фронта, прокурору и начальнику особого отдела 20-й армии. Его копия, для предостережения, была отправлена командиру 8-го танкового корпуса М. Д. Соломатину[110]. В документе констатировалось, что «за шесть дней действий, без участия в серьезных боях, в 8 ТК из 181 танка новой матчасти осталось в строю только 63 танка, в т.ч.: КВ — 2; Т-34 — 17; Т-60 — 37 и Т-70 — 7. Усматривая в действиях командования корпуса и бригад явную преступность, ПРИКАЗЫВАЮ: В двухдневный срок расследовать и установить виновников потери материальной части и доведения корпуса до потери боеспособного состояния. Явных виновников в порче и выводе из строя матчасти в 24-х часовой срок судить и расстрелять перед строем танкистов. Командованию корпуса в двухдневный срок собрать корпус, подтянуть всё оставшееся и дать Военному Совету фронта лично письменное объяснение по существу»[111].
Такое распоряжение, конечно, не брало в расчет тех тяжелейших условий местности и характера сражения, с которыми столкнулись советские танкисты под Ржевом. Но, как сегодня представляется, документ появился не только под воздействием больших потерь корпусов, приданных фронту Жукова, но и как реакция на приказ Ставки ВГК, переданный Западному фронту по БОДО накануне, 10 августа. В нем заострялось внимание на том, что утрата танков по техническим причинам в РККА часто превышает боевые потери. В качестве примера приводился Сталинградский фронт, где «за шесть дней боя двенадцать наших танковых бригад, имея значительное превосходство в танках, артиллерии и авиации над противником, из 400 танков вышли из строя 326, из них по техническим неисправностям около 200, причем боевая часть танков оставлена на поле боя». Жукова, несомненно, затрагивала следующая фраза: «Аналогичные потери имели место и на других фронтах». Сталинский стиль решения проблемы целиком угадывается при дальнейшем прочтении документа: «Считая невероятным такой недопустимо высокий процент танков, выбывших их строя по техническим неисправностям, СТАВКА усматривает здесь наличие скрытного саботажа и вредительства со стороны некоторой части танкистов, которые, изыскивая отдельные мелкие неполадки в танке, или умышленно создавая их, стремятся уклониться от поля боя, оставляя танки на поле боя. В то же время безобразно поставленный в танковых частях технический контроль за материальной частью… способствует этим преступным, нетерпимым в армии явлениям». Сталин и Василевский, подписавшие приказ, требовали наладить надлежащий контроль и ремонт вышедших из строя бронемашин, под началом безукоризненно честных техников, а «личный состав, уличенный в саботаже или вредительстве, сводить в штрафные танковые роты… и использовать их на наиболее опасных направлениях». Тем самым считалось, что им будет «предоставлена возможность искупить свою вину». «Безнадежных, злостных шкурников из танкистов» предписывалось немедленно изымать из танковых частей и «направлять в качестве рядовых в штрафные пехотные роты»[112].
Что тут можно сказать? Вновь повеяло атмосферой 1937 года, которая причудливо вписывалась в условия военного времени, особенно после знаменитого приказа № 227. Конечно, можно принять в расчет обстоятельства того трагического периода, но они не оправдывают безосновательного осуждения по принципу — есть факт технической неисправности, следовательно, нужно немедленно наказать виновников. А разбираться в причинах будем потом.
Следует отметить и еще одно обстоятельство, помешавшее достигнуть на центральном направлении летом 1942 г. больших результатов. Несмотря на то, что с трагических поражений 1941 г. прошло уже достаточное количество времени, изменился характер боевых действий, многие военачальники Красной Армии все еще не научились ведению современной войны. Методы их управления войсками оставались зачастую старыми. В их действиях не редко присутствовал шаблон, отсутствие необходимой инициативы. Конечно, опыт постепенно накапливался, но для решительного перелома требовались серьезные кадровые перестановки, для осуществления которых пока не доставало самих кадров, и главное — веры в собственные силы и возможности, обрести которую возможно было только на волне неоспоримого крупного успеха. Летом и осенью 1942 г. на ржевском направлении такие условия еще не созрели. Ни Первая Ржевско-Сычевская операция, ни Вторая (более известная под названием «Марс», ноябрь–декабрь 1942 г.) и привели к ожидаемым результатам.
Попытки деблокады Ленинграда в первой половине 1942 года
При всех ошибках, просчетах, волюнтаристских решениях советское командование принимало максимум мер для снабжения Ленинграда и скорейшего прорыва его блокады. Были предприняты четыре неудачные попытки разорвать вражеское кольцо. Первая — в сентябре 1941 г., на третий день после того, как гитлеровские войска перерезали сухопутные коммуникации с городом; вторая — в октябре 1941 г., несмотря на критическое положение, сложившееся на подступах к Москве; третья — в январе 1942 г., в ходе общего контрнаступления, которое лишь частично достигло своих целей; четвертая — в августе–сентябре 1942 г. Основными причинами неудач являлся недостаток сил и средств, выделенных для прорыва обороны противника.
Любанская операция
В январе 1942 г. Красная Армия, казалось, сумеет добиться успеха не только в центре, но и на флангах огромного советско-германского фронта. Ставка ВГК приняла решение о начале общего наступления Красной Армии. После освобождения Тихвина у советского командования возникли надежды на то, что продолжение наступления Волховского (командующий генерал К. А. Мерецков) и удары Ленинградского фронтов (командующий до июня 1942 г. генерал М. С. Хозин, затем — генерал Л. А. Говоров) разорвут вражеские клещи, сжимавшие город на Неве.
В перспективе Ставка ВГК планировала не только снять блокаду Ленинграда, но и освободить Новгород, Старую Руссу, Сольцы, и, наступая дальше во взаимодействии с Северо-Западным фронтом, нанести группе армий «Север» тяжелое поражение. В результате этого были бы созданы предпосылки для стратегического охвата северного фланга германских войск, что могло содействовать краху немецкой обороны на всем Восточном фронте.
Любанская операция началась 7 января и продолжалась по 30 апреля 1942 года. После форсирования замерзшей р. Волхов, советские войска продолжили наступление. Вскоре Волховский фронт был усилен целыми двумя армиями: 59-й и 26-й (впоследствии 2-й ударной).
Когда войска Мерецкова вели бои за расширение плацдармов, действовавшая в полосе справа от них (между Ладожским оз. и р. Волхов) 54-я армия генерала И. И. Федюнинского (Ленинградский фронт), продолжала вести напряжённые бои на участке железной дороги Мга — Кириши. Этой армии ставилась задача содействовать Волховскому фронту в освобождении Ленинграда от блокады. Войскам 54-й армии и Волховского фронта (4-я, 52-я, 59-я и 2-я Ударная армии) противостояли в полосе между озёрами Ладожским и Ильмень 17 дивизий немецкой 18-й армии (командующий до 16.01.1942 г. генерал Г. фон Кюхлер, с 17.01.1942 г. генерал Г. Линдеманн), входившей в группу армий «Север» (командующий до 16.01.1942 г. фельдмаршал фон Лееб, с 17.01.42. генерал Г. фон Кюхлер). Немцы сумели укрепить свою оборону на направлениях главных ударов советских войск. Они создали сеть опорных пунктов на левом берегу Волхова и под Киришами — на его правом берегу. Советское командование поставило первоочередную задачу — ударами по сходящимся направлениям войсками Волховского фронта и 54-й армии Ленинградского фронта сломить сопротивление противника, выйти к Любани и тем самым окружить любанскую группировку врага. Особая роль в этой связи придавалась расширению плацдарма на западном берегу р. Волхов и быстрому продвижению 2-й Ударной армии. После уничтожения противника под Любанью планировался удар в тыл германских войск, осаждавших Ленинград с юга.
Советское наступление началось еще до подхода всех сил, предназначенных для операции. Продвигаться вперед приходилось по глубокому снегу, в лесной и болотистой местности, преодолевая ожесточенное сопротивление врага. Вскоре дали о себе знать перебои со снабжением: продовольствием, фуражом, боеприпасами. Однако во второй половине января 2-я Ударная армия, прорвав оборону противника, вышла к железной дороге Новгород — Ленинград. К сожалению, другие армии Волховского фронта не смогли в должной мере поддержать прорвавшиеся советские части. Выйдя к Любани, 2-я Ударная армия оставалась связаной с основным фронтом лишь узким коридором прорыва в р-не д. Мясной Бор. Все последующее время, пока передовые соединения армии пытались продвинуться к северо-западу, за эту горловину шли не прекращающиеся бои.
Весь февраль и половину марта советские войска безуспешно пытались взять Любань, но сил для этого уже не хватало. 54-я армия, возобновив наступление, смогла в марте продвинуться на несколько десятков километров к юго-западу, но добиться соединения со 2-й Ударной армией была не в состоянии. К тому же начиналась распутица, и снабжение передовых частей РККА до предела сократилось. Все больше сказывались потери в живой силе, тогда как пополнение поступало скудно и нерегулярно. Войска были измотаны наступательными боями, в то время как немцы, опираясь на надежную систему снабжения, организовали крепкую оборону. Противник не замедлил воспользоваться создавшимся положением на советском фронте. Как только погода позволила использовать авиацию, немцы перешли в контратаки и к 19 марта 1942 г. перерезали линии коммуникаций 2-й Ударной армии у Мясного Бора.
Дополнительная переброска германских соединений не только к горловине прорыва 2-й Ударной армии, но и под Любань сделали бесперспективными дальнейшие попытки расширить плацдарм наступления. Все внимание теперь было сосредоточено на восстановлении связи с основным фронтом. Ожесточенные бои, продолжавшиеся несколько дней, позволили пробить на восток узкий коридор шириной не более 800 метров, который к концу марта был расширен до 2–2,5 км.
После восстановления снабжения, которое оставалось крайне недостаточным (коридор простреливался прицельным огнем с двух сторон, а большую часть припасов советским бойцам приходилось носить на себе по проложенным гатям), 2-я Ударная армия в начале апреля 1942 г. вновь попыталась организовать наступление на Любань. Но и это наступление захлебнулось. Неудачи повлекли за собой замену генерала Н. К. Клыкова на посту командующего армией генералом А. А. Власовым, ранее прибывшим на этот участок с целью инспекции. Положение 2-й Ударной уже на тот период было критическим и продолжало ухудшаться. Соседние объединения (52-я и 59-я армии) безуспешно штурмовали опорные пункты врага и вынуждены были отбивать его все усилившиеся контрудары, в том числе по линиям снабжения 2-й Ударной армии. Вскрывшийся лед на Волхове еще более усложнил ситуацию, тогда как организованное снабжение по воздуху не могло обеспечить всех потребностей войск. Через некоторое время по коридору удалось запустить узкоколейную железную дорогу, но ее эффективность оказалось крайне низкой. 2-й Ударной армии, оказавшейся зажатой во вражеском мешке, стал угрожать голод, — в пищу пошло уже мясо лошадей. Бойцы и командиры сражались из последних сил.
В последний день апреля 1942 г. силы Волховского фронта и 54-й армии, понеся большие потери и израсходовав весь наступательный потенциал, перешли к обороне. Главная задача операции — захват Любани, нанесение поражения группе армий «Север» и деблокада Ленинграда — выполнены не были. Соединения немецкой 18-й армии также были в значительной степени обескровлены и оказались в непростой ситуации[113]. Однако возможностей для возобновления активных действий в виду лучшего снабжения и выгодного оперативного положения у германского командования было больше.
В мае–июне 1942 г. основное внимание Ставки ВГК на северном фланге фронта было приковано к положению в районе Демянска (боевые действия на этом направлении были описаны выше) и на участке 2-й Ударной армии.
С конца апреля командование Ленинградского фронта (в него вошли и армии Волховского фронта — т.н. «Волховская группа войск» фрон-та. — М. М.) и 2-й Ударной армии разрабатывали планы выхода из окружения. В середине мая армия начала медленный отход советских частей к позициям у Мясного Бора. Но немцы решили сыграть на опережение. 30 мая 1942 года они нанесли мощный удар под основания коридора, использовав для этого крупные силы сухопутных частей, поддержанных авиацией. Линии снабжения 2-й Ударной были вновь перерезаны, а ширина барьера, отделявшего ее от основного фронта составила 1,5 км. В котле оказалось более 40 тыс. военнослужащих вместе со своим командующим. Знамя армии было вывезено на большую землю. Снабжение окруженных войск фактически прекратилось, наступил страшный голод, тогда как в полевых госпиталях оставались многие тысячи раненых, которым не могла быть оказана помощь. Прорыв на восток стал единственной возможностью спасти уцелевшие силы.
Испытывая на себе неослабное давление врага части 2-й Ударной продолжали отходить к Мясному Бору. Линия фронта все более сжималась. Управление обессилевшими войсками было нарушено. Многие соединения представляли из себя лишь малочисленные отряды. Ко второй половине июня в котле оставалось чуть более 20 тыс. чел. 21 июня 1942 года ценой невероятных усилий войскам 2-й Ударной и наступающей навстречу 59-й армии удалось пробить узкую брешь во вражеском кольце, ширина которого не превышала 400 метров. В ходе последующих боев эта брешь то расширялась до 1 километра, то сужалась всего до 200 метров.
Выход из котла превратился в хаотичный процесс. Тысячи людей гибли от прицельного огня вражеских пулеметов и минометов, умирали под разрывами бомб. Весь коридор был заполнен трупами, которых некогда было не только захоранивать, но и просто относить с дороги. Через 70 с лишним лет после тех событий поисковики находят не погребенные останки советских воинов, сложивших голову в неравной борьбе с безжалостным противником в окрестностях д. Мясной Бор.
Немцы периодически закрывали кольцо, но коридор вновь пробивался в результате отчаянных советских атак. Последний раз он был открыт в ночь на 25 июня 1942 г., но вскоре опять блокирован — теперь уже окончательно. 27 июня 59-я армия предприняла еще одно усилие прорваться сквозь немецкие позиции, но это привело лишь к напрасным потерям. Оставшимся в окружении бойцам оставалось только надеяться на судьбу и пытаться прорваться на восток в одиночку или мелкими группами. Фактически 2-я Ударная армия была уничтожена. По разным оценкам, из кольца в июле-августе удалось выйти до 15 тыс. чел. Оставшиеся в окружении воины либо погибли, либо попали в руки врага. По немецким данным, им удалось пленить тогда около 30 000 человек, среди которых оказался и командующий армией генерал А. А. Власов[114].
Трагическая судьба 2-й Ударной армии самым неблагоприятным образом сказалась на положении советских войск, стремившихся освободить от блокады Ленинград. Смелые цели, которые преследовали войска Волховского и Ленинградского фронтов, остались не реализованными по целому ряду причин. Среди них: недостаток вооружения, боеприпасов, продовольствия в ходе продвижения вперед, начавшаяся затем распутица и отсутствие необходимых резервов. Но не меньшую роль в неудачных действиях сыграли ошибки советского командования, поставившего перед своими силами первоначально слишком широкие задачи. Оно также не сумело вовремя оценить складывавшуюся ситуацию, когда наступление следовало немедленно прекратить, и оказалось бессильно быстро отвести войска из-под удара противника. Запоздалое принятие решения на отход стало одной из главных причин понесенного поражения.
Теперь Ставка ВГК была вынуждена более скрупулезно учитывать расстановку сил под Ленинградом и готовиться к новым боям по прорыву блокады, привлекая для этого дополнительные резервные силы. Очередная крупная попытка снять осаду города на Неве (не считая локальных боевых операций, которые советские армии осуществляли в июле–августе 1942 г.) была произведена в сентябре–октябре 1942 г. Серия ударов Красной Армии того времени по названию местности, где они проводились, получили название Синявинская операция.
Синявинская операция
Во второй половине августа 1942 г. советское командование планировало осуществить новую крупную операцию по прорыву блокады Ленинграда. Войскам вновь образованного 9 июня 1942 г. Волховского фронта (командующий генерал К. А. Мерецков) предстояло нанести поражение силам противника на мгинско-синявинском направлении и наступать в направлении Невской Дубровки, тем самым соединившись с Ленинградским фронтом. В начале августа основные задачи были определены; главный удар намечалось нанести силами 8-й армии и восстановленной 2-й Ударной армии в районе Синявино. Войска строились в три эшелона, которые в общей сложности включали 16 стрелковых дивизий, 10 стрелковых, 6 танковых бригад и 4 отдельных танковых батальона[115] — всего около 150 000 солдат и офицеров. Поскольку на направлении главного удара оборонялись лишь пехотные части противника, советское командование надеялось осуществить прорыв сходу, еще до подхода вражеских резервов. 55-я армия Ленинградского фронта генерала Л. А. Говорова должна была содействовать Волховскому фронту ударом в направлении р. Тосна, а силами Невской оперативной группы форсировать Неву, и развивать наступление в направлении Синявино.
Как и на центральном направлении, где в то время проводилась Ржевско-Сычевская операция, второй целью наступления под Ленинградом было сковать, насколько это возможно, соединения немецкой группы армий «Север» и не позволить перебросить их на юг — под Сталинград и Кавказ, где разгорались решающие сражения. Генерал армии Мерецков надеялся на успех и считал, что встреча войск Волховского и Ленинградского фронтов произойдет уже на третий день после начала операции[116]. На фронте были предприняты строжайшие меры по маскировке сосредоточения сил (переброска частей в ночное время, радиомолчание и др.), что способствовало тому, что немцы не смогли точно определить состав советской группировки.
Однако германская сторона сумела возвести на участках, где ожидалось советское наступление надежные оборонительные сооружения. Там, где заболоченная почва не позволяла вырыть траншеи, немцы строили специальные заборы. Они вбивали в грунт два ряда кольев, стягивали их проволокой и оплетали ветвями и сучьями деревьев. Пространство между кольями заполнялось бревнами, мокрой землей, камнями. Перед такими укреплениями обычно образовывались рвы, наполненные водой, что представляло собой еще одно серьезное препятствие и увеличивало потери атакующих сил[117]. Более того, командование вермахта не собиралось только отсиживаться в обороне, оно также намечало нанести удар по Ленинграду и попытаться взять город, падение которого считалось одной из главных задач в войне на Востоке еще со времени разработки операции «Барбаросса». Согласно директиве фюрера №45 от 23 июля 1942 г., операция по захвату Ленинграда группой армий «Севере» получала первоначальное название «Волшебный огонь». В группу армий «Север» перебрасывался штаб и соединения немецкой 11-й армии Э. Манштейна, которая только что завершила штурм Севастополя. Немцы намеревались придерживаться следующего плана действий: сначала разрушить город воздушными бомбардировками и артиллерийским огнем, а затем уже штурмовать его укрепления. Руководство вермахта приступило к тщательной проработке операции сразу же после завершения боев на любанском направлении. Ее план неоднократно обсуждался в гитлеровской ставке. 19 июля Генеральный штаб сухопутных войск Германии проинформировал командование группы армий «Север», что «в настоящее время имеются соображения… начать наступление на Ленинград с задачей овладеть городом, установить связь с финнами севернее Ленинграда и тем самым выключить русский Балтийский флот». Город на Неве, как Гитлером и было задумано ранее, обрекался на полное уничтожение; его определенно собирались стереть с лица земли[118].
Несмотря на то, что исчерпывающих сведений о противостоящих силах РККА у немецкого командования не было, оно догадывалось о подготовке советской стороны к активным действиям и желало упредить ее, попытаться нанести ей поражение без привлечения дополнительных сил, выделенных для захвата Ленинграда. Наступление должно было начаться не позднее 14 сентября. Штаб 11-й армии прибыл под Ленинград уже в конце августа. Германские войска усиливались авиацией и орудиями крупного калибра. Дальнобойная артиллерия получила дополнительные боеприпасы для планомерного уничтожения жилых домов города на Неве.
К операции, которая получила окончательное название «Северное сияние», привлекались силы 11-й и 18-й немецких армий (всего 12 дивизий и отдельные части усиления). Общее руководство наступлением было возложено в начале сентября на фельдмаршала Э. Манштейна. Немцам предстояло форсировать Неву, соединиться с финскими войсками на Карельском перешейке и взять Ленинград. Все говорило о том, что защитников города на Неве ожидают новые испытания. Сведения о переброске 11-й армии на север и подготовке вражеского удара были известны советской разведке. Но, равно как и немцам, ей не удалось получить полных данных о составе противостоящей группировки и ее намерениях. С целью отвлечь внимание противника от направления главного удара советская сторона провела в июле-августе ряд частных операций на Ленинградском (42-я и 55-я армии) и на Волховском (4-я и 59-я армии) фронтах, сумев в кровопролитных боях освободить несколько населенных пунктов. Приближался час решительного штурма немецких позиций. Документы Военного совета Ленинградского фронта показывают, что со своей стороны войска генерала Говорова поочередно разрабатывали сразу два плана наступления. Один из них (подготовленный не позднее 11 августа) был озаглавлен весьма многообещающе: «Операция по окружению и уничтожению Синявинско-Шлиссельбургской группировки противника совместными действиями Ленинградского и Волховского фронтов в августе 1942 г.». Ставка ВГК предписывала фронту Говорова прорвать оборону противника на колпинском направлении, форсировать р. Тосна и выйти на ее восточный берег. Главной задачей являлось: «Во взаимодействии с Волховским фронтом снять блокаду Ленинграда». Интересно, что в первом варианте плана были зачеркнуты слова, которые, как представляется, не достаточно четко нацеливали на прорыв вражеского кольца, а требовали всего лишь «уничтожить противостоящую группировку противника и содействовать Волховскому фронту в захвате рубежа р. Мга»[119].
Ленфронт должен был внести весомую роль в предстоящем наступлении, причем направление удара было выбрано несколько в стороне от места предыдущих попыток взломать германскую оборону в р-не Московской Дубровки. Теперь внимание было перенацелено на участок, отстоящий оттуда в 15–20 км к юго-западу. Считалось, что немцы не будут здесь ежечасно ожидать прорыва, и их можно не только вытеснить, но и «окружить», добиться решительно перелома на данном театре военных действий. Такая задача не учитывала реальных возможностей Ленфронта, тем более встречи его войск со свежими резервами противника. К недостаткам колпинского направления необходимо было отнести большее расстояние, отделявшее 55-ю армию от соседнего Волховского фронта, чем со стороны Невской оперативной группы, «растягивание правого фланга ударной группировки, подверженного удару с юга», по мере наступления. Серьезным был и противник. Несмотря на свою относительную малочисленность на передовых позициях, здесь оставались закаленные и фанатичные части эсэсовцев (дивизия СС «Полицай»). Длительное пребывания в обороне дало возможность врагу расширить ее глубину до 6 км, создать десятки огневых точек, несколько рядов колючей проволоки. Сама местность была союзником обороняющейся стороны — болота, леса, водная преграда р. Тосна. Имевшиеся здесь цеха разрушенных промышленных предприятий служили опорными пунктами немцев. Ожидалось, что командование 18-й армии вермахта сможет перебросить из своего оперативного резерва до двух–трех пехотных дивизий, чтобы парировать советский удар. Тем не менее, Говоров и командующий 55-й армии рассчитывали на успех, собрав в ударной группе целых пять стрелковых дивизий, одну танковую бригаду, 600 орудий разных калибров, с плотностью огня на главном направлении 75 орудий на 1 км фронта, 150 истребителей и 110 штурмовиков и бомбардировщиков. Начало операции (которая была рассчитана всего на 5–6 дней) определялось генералом Говоровым и членом Военного совета Ленфронта, секретарем ЦК ВКП(б) Ждановым сроком «выхода ударной группировки Волховского фронта в район Синявино», но готовность войск к действиям не позднее 23 августа[120].
Однако еще ранее этой даты советское командование получило подтверждение о появлении вблизи фронта новых германских частей. Следовало полагать, что дополнительно к соединениям 18-й немецкой армии, располагавшей более 300 тыс. чел., к Ленинграду прибывают дивизии 11-й армии Манштейна. Поэтому войска Ленинградского фронта решили начать наступление раньше — 19 августа. К этому времени Волховский фронт еще не завершил своей подготовки к операции. 55-й армии удалось добиться первоначального успеха и взять н. п. Ивановское и Усть-Тосно. Однако дальнейшее продвижение было приостановлено подошедшими вражескими резервами. Предназначенные для наступательной операции дивизии Манштейна были вынуждены сходу вступать в оборонительные бои против атакующих советских частей. Они несли значительные потери, но к началу сентября сумели сдержать советский натиск. Командование Ленфронта было вынуждено на этом участке прекратить атаки и отступить, оставив за собой лишь небольшой плацдарм на правом берегу реки Тосна в районе д. Ивановское.
Смертельная мясорубка, в которой на небольшой территории перемалывались и истекали кровью атакующие части РККА и контратакующие части немцев, тем временем продолжалась. 27 августа к операции присоединилась 8-я армия Волховского фронта, нанеся главный удар частями 6-го гвардейского стрелкового корпуса. И хотя артиллерийская подготовка была мощной, при участии дивизионов гвардейских минометов, в первый день советским частям удалось продвинуться всего на 1,5–2 км. На второй день успех был более внушительным. 19-й гвардейской стрелковой дивизии, преодолевая ожесточенное сопротивление противника, удалось преодолеть 5 км и выйти на подступы к Синявино. Но контрудары противника, в которых участвовали не только пехотные, но и танковые подразделения (в т.ч. несколько новейших танков «Тигр»), поддержанные массированными атаками люфтваффе, сделали дальнейшее продвижение вперед трудно выполнимой задачей. Большие потери 8-й армии (за первые пять дней до 16 тыс. чел.) предопределили необходимость срочного введения в бой сил второго эшелона прорыва (4-й гвардейский стрелковый корпус). Ему ставилась задача выйти к Неве у пос. Анненское. Продвинувшись на расстояние около 10 км, корпус исчерпал свои силы и не смог достигнуть Невы. Проведя перегруппировку, командование Волховского фронта возобновило наступление 9 сентября, бросив в наступление 2-ю Ударную армию, которой были подчинены ослабленные в предыдущих боях 4-й и 6-й корпуса. Однако и она, понеся большие потери, не выполнила поставленной задачи.
К этому времени у Ленинградского фронта был разработан новый план операции по нанесению встречного удара. Вновь внимание возвращалось к району Дубровки. Главный удар должна была нанести Невская оперативная группа (НОГ) на синявинском направлении с целью соединения с войсками Мерецкова. После форсирования Невы на участке 4-х км (Пески, Выборгская Дубровка) ударной группе НОГ предстояло продвинуться в сторону Арбузово, Синявино — «по кратчайшему направлению к войскам Волховского фронта». Силы, выделенные для наступления, состояли из двух стрелковых дивизий, одной стрелковой бригады и 3-х батальонов легких танков. Плотность артиллерийского огня — 70 орудий на километр фронта; к прикрытию с воздуха привлекались ВВС Ленфронта и Краснознаменного Балтийского флота. Расчет операции — 3 дня. Начало — 9 сентября, во второй половине дня[121].
Начавшийся прорыв Невской оперативной группы навстречу Волховскому фронту, равно как и все предыдущие, не принес решающего успеха. Советским соединениям, ценой невероятных усилий удалось захватить лишь небольшой плацдарм на левом берегу Невы, но дальнейшее наступление натолкнулось на уничтожающий вражеский огонь и вскоре захлебнулось. В одном из документов Военного совета Ленфронта отмечалось, что противник, изначально имевший на восточном берегу Невы 227-ю пд (но в дальнейшем усилившийся за счет армии Манштейна. — М. М.) оказывал НОГ сильное сопротивление. Изучая тактику действий наших войск, вражеское командование меняло и свое поведение. Днем на переднем крае обороны немцы оставляли лишь небольшие подразделения, тогда как главные силы укрывались от советского огня в ближайшей глубине. В момент нашего наступления германская сторона, не дожидаясь окончания форсирования реки, наносила мощные артиллерийские и воздушные удары по переправочным средствам. Против захваченного плацдарма немедленно проводилась короткая, но мощная контратака с целью сбросить советских бойцов в воду[122]. Ситуация в полосе действия НОГ осложнялась по мере роста боевых возможностей германской группировки. Немецкое верховное командование осознало, что их собственная операция может быть поставлена под большой вопрос, поэтому Гитлер приказал Манштейну в срочном порядке взять на себя руководство сражением. Бывший фельдмаршал вермахта вспоминал, что к тому времени «стало ясно, что советская сторона, используя крупные силы, организовала наступление с целью прорыва блокады Ленинграда; этим наступлением противник, очевидно, хотел упредить наше наступление. 4 сентября вечером мне позвонил Гитлер. Он заявил, что необходимо мое немедленное вмешательство в обстановку на Волховском фронте, чтобы избежать катастрофы. Я должен был немедленно взять на себя командование этим участком фронта и энергичными мерами восстановить положение. Действительно, в этот день противник в районе южнее Ладожского озера совершил широкий и глубокий прорыв занятого незначительными силами фронта 18 армии… И вот вместо запланированного наступления на Ленинград развернулось «сражение южнее Ладожского озера»… Прежде всего, нужно было остановить продвижение противника имеющимися под руками силами нашей 11-й армии»[123]. Ожесточенные схватки вели к большим потерям с обеих сторон. Некоторые советские дивизии теряли в день не менее 500 чел. Подход свежих немецких дивизий и их быстрое введение в бой решило исход дела. Германские контрудары заставили советские соединения перейти к обороне, а затем начать отступление. К 20 сентября немецкие части охватили район советского прорыва на Волховском фронте и готовили разящие удары под основание выступа. На следующий день они начали свою атаку и быстро добились успеха, окружив 25 сентября большую часть сил 2-й Ударной и 8-й армий в районе Гайтолово. Германская авиация постоянно висела в воздухе. Она волнами заходила над позициями Красной Армии, не давая советским бойцам поднять головы. Анализируя ситуацию, Э. Манштейн отмечал, что советское наступление удалось остановить только в результате напряжения всех сил: «После сосредоточения прибывших к этому времени остальных дивизий армии, — вспоминал он, — штаб мог начать решающее контрнаступление. Контрнаступление было организовано с севера и юга, из опорных пунктов уцелевшего фронта, чтобы отрезать вклинившиеся войска противника прямо у основания клина. К 21 сентября в результате тяжелых боев удалось окружить противника. В последующие дни были отражены сильные атаки противника с востока, имевшие целью деблокировать окруженную вражескую армию прорыва. Та же судьба постигла и Ленинградскую армию, предпринявшую силами 8 дивизий отвлекающее наступление через Неву и на фронте южнее Ленинграда»[124].
Положение советских окруженных частей было чрезвычайно трудным, им грозило полное уничтожение без поддержки извне. Лишь благодаря остающимся разрывам в линии немецкого кольца и переброски дополнительных резервов, часть сил 8-й и 2-й Ударных армий смогли избежать худшей участи и пробиться на восток 29–30 сентября 1942 г. Особую роль в спасении окруженцев сыграли действия 73-й морской стрелковой бригады, удержавшей узкий коридор, ведущий к основному фронту в районе Тортолово. Однако потери советских войск были чрезвычайно высокими. Согласно докладу Мерецкова начальнику Генерального штаба от 10 октября, потери только убитыми и пропавшими без вести составили 4687 человек. Из окружения вышли 4684 человека 2-й Ударной армии и 2610 человек из 8-й армии. По немецким данным, в плен попало около 12 тыс. советских бойцов, было захвачено много единиц техники и вооружения[125]. Ставка ВГК, осознав, что дальнейшее продолжение операции по деблокаде Ленинграда ни к чему не приведут, приказала 3 октября перейти к обороне и прочно закрепиться на занимаемых позициях
К 10 октября в основном закончилась и операция Невской оперативной группы Ленинградского фронта. Ситуация в районе Московской Дубровки изначально осложнялась тем, что немцы еще в апреле сумели очистить от советских войск знаменитый «Невский пятачок» на левом берегу реки. Захваченный первый раз еще в сентябре 1941 г. этот советский плацдарм представлял собой небольшой клочок земли вдоль обрывистого, высокого берега реки, шириной до 2-х км и в глубину 500–600 м. Он простреливался со всех сторон ружейно-пулеметным и артиллерийско-минометным огнем. Враг не раз пытался скинуть бойцов Красной Армии в воду. Потери с обеих сторон были очень большими. Всю зиму 1941–1942 г. на плацдарме шли позиционные бои. К апрелю 1942 г. плацдарм оборонял 330-й стрелковый полк 86-й сд, он держал оборону по фронту 3,8 км. 24 апреля 1942 г. на р. Неве начался ледоход, который отрезал полк от правого берега. Противник воспользовался этим и после ожесточенных боев 29 апреля, расчленив боевые порядки полка, вышел к Неве. Связь с плацдармом окончательно прервалась. В живых остался только начальник штаба полка, майор Александр Соколов, который, будучи мастером спорта по плаванию и чемпионом Приволжского военного округа, сумел, несмотря на ранение, переплыть холодную Неву.
26 сентября 1942 г. войска Невской оперативной группы в составе 70, 86-й сд и 11-й стрелковой бригады снова овладели плацдармом на левом берегу р. Нева в районе д. Арбузово и Невской Дубровки. Однако развить наступление советскому командованию враг не дал. Потери наших частей только до конца сентября составили здесь около 10 тыс. чел. Ситуация не изменилась даже после того, как на «Невский пятачок» было переправлено 26 танков[126]. Враг имел подавляющее превосходство в воздухе и подвергал плацдарм непрерывному обстрелу артиллерии и минометов. 5 октября 1942 г. Ставка ВГК решила операцию Невской группы прекратить и отвести основные силы на правый берег Невы.
Оставшиеся на плацдарме бойцы и командиры, тем не менее, продолжали вести борьбу за него вплоть до прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 г. За мужество и героизм, проявленные при форсировании р. Невы и захват плацдарма, 70-я сд была первой на Ленинградском фронте преобразована в гвардейскую и стала именоваться 45-й гв. сд. Одна из рот 329-го сп этой дивизии вошла в историю обороны Ленинграда, как полностью орденоносная — все 114 человек ее л/с награждены орденами и медалями.
«Невский пятачок» наши части удерживали около 400 дней. Этот небольшой участок земли стал одним из символов героизма советских воинов, отстоявших город на Неве. Многие тысячи защитников плацдарма погибли, но не сдали своих боевых позиций. Осенью 1941 г. в боях на «Невском пятачке» принимал участие и был тяжело ранен В. С. Путин — отец президента России. В январе 1943 г. войска, расположенные на плацдарме, оказали существенную поддержку главным советским силам, наконец-то разорвавшим вражеское кольцо в ходе операции «Искра».
Попытки деблокировать Ленинград в ходе Синявинской операции стоили большой крови. По опубликованным данным, Ленинградский и Волховские фронты, части Балтийского флота и Ладожской войной флотилии с 19 августа по 10 октября 1942 года лишились 113 674 человек, из них 40 085 безвозвратно[127]. По данным оперативного отдела штаба группы армий «Север», в период проведения войсками Волховского фронта Синявинской наступательной операции с 28 августа по 30 сентября потери немецких войск составили 671 офицер и 25 265 унтер-офицеров и рядовых. Из этого числа 172 офицера и 4721 солдат были убиты. Наибольший урон понесли подразделения пехоты и военно-инженерные части[128].
Немцы смогли удержать захваченную под Ленинградом территорию и нанести Красной Армии большой урон, который значительно превосходил их собственный. Блокада Ленинграда не была прорвана, но и командованию вермахта не удалось выполнить свою главную задачу — захватить город и соединиться с финскими войсками. Советские жертвы не были напрасными. В целом, стороны занимали к началу октября 1942 г. примерно те же позиции, что и до начала активных боевых действий. Однако расчеты германского командования захватить город на Неве также оказались тщетными. Враг был скован отчаянными попытками советских войск переломить в свою пользу ход сражения. Добавим, что группе армий «Север» не удалось перебросить какие-либо резервы на южный фланг Восточного фронта. Более того, решение Гитлера перебросить после захвата Севастополя 11-ю армию Манштейна не на Кавказ или в направлении Сталинграда, а под Ленинград, способствовало ослаблению германского натиска на юге России, что, в конечном итоге, стало одной из причин поражения вермахта на берегах Волги и в предгорьях Главного Кавказского хребта.
Ошибки и просчеты проведения Синявинской операции, среди которых выделяются отсутствие необходимой координации действий Волховского и Ленинградского фронтов, неумелое введение в бой танковых частей, слабое знание уязвимых мест вражеской обороны (за что несет ответственность фронтовая разведка), ненадежная связь, и конечно, неспособность обеспечить господство в воздухе советской авиации очевидны. Необходимо добавить к этому и имевшее место отвратительное управление войсками со стороны ряда военачальников, их нежелание считаться с потерями во время фронтальных атак. На участках прорыва не было создано подавляющего превосходства в артиллерии, хотя по общему количеству орудий советские войска превосходили противника в два раза. Отсутствие у наших генералов гибкости и смекалки в принятии решений вело к запоздалым приказам о перенесении направлений ударов. В последующий период — во второй половине 1942 г. — командование РККА занялось активным изучением и исправлением допущенных ошибок, что обеспечило более целенаправленное планирование и тщательную подготовку к прорыву кольца вокруг Ленинграда, произошедшему уже в январе 1943 г.
* * *
С середины 1942 г. внимание всех воюющих держав было приковано к гигантской битве, развернувшейся на Волге у стен Сталинграда. Многим ответственным военным и политическим деятелям на Западе казалось, что вермахт вновь близок к тому, чтобы поставить Красную Армию на колени. Американские и английские оценки советского потенциала, как и в 1941 г., были противоречивыми. В одном из докладов Управления военной разведки США конца июня 1942 г. говорилось, что без значительных поставок и участия в войне союзников руководство СССР не в состоянии освободить свою территорию. В то же время, в документе, подготовленном Управлением стратегических служб 3 ноября 1942 г., подчеркивалось, что эвакуация, проведенная в России, имела величайший масштаб, а остающиеся у нее ресурсы вполне достаточны для форсированного роста военного производства[129]. Начальники штабов англо-американских союзников принимали к сведению данные разведки о том, что «моральное состояние Красной Армии укрепилось», а «проявления враждебных действий со стороны местных жителей находится под контролем». Военные разведчики делали вывод: «советские войска не дадут немцам прорваться через главный Кавказский хребет, по крайней мере, до апреля 1943 года…»[130].
К середине ноября 1942 г. и германскому командованию пришлось признать, что его грандиозный план сокрушения Советского Союза в новой кампании близок к полному краху. Первостепенная задача захватить Кавказ и Сталинград оказалась не выполненной. Одновременно оставалась несбыточной мечта Гитлера триумфально войти в Москву и оккупировать центральный промышленный регион СССР.
Однако ни союзники СССР, ни командование вермахта не смогли до конца распознать тот глубинный ресурс — политический, военный, моральный, — который был у Красной Армии, и сделать правильные выводы о ее боевых возможностях. Очевидно поэтому таким шоком для них стало мощное советское контрнаступление в междуречье Дона и Волги, которое привело к окружению 330-тысячной германской группировки под Сталинградом, а затем и к быстрому изгнанию немцев с Северного Кавказа, Ставрополья и Кубани.
Данные советской разведки позволяли сделать вывод, что враг на южном фланге близок к истощению. Генштаб РККА уже давно задумывался над тем, как переломить ход войны в свою пользу. Разработка планов по разгрому германских группировок, рвущихся на Сталинград и Кавказ, началась еще в сентябре 1942 г., что вылилось, в конечном итоге, в замысел «планетарного» масштаба. Планеты солнечной системы, Уран и Сатурн, дали название операциям Красной Армии на южном направлении, тогда как Марс и Юпитер — на центральном.
К середине ноября свежие войска перебрасывались к Сталинградскому, Юго-Западному и Донскому фронтам, которые завершали подготовку наступления на своих участках. Штаб вновь созданного в конце октября 1942 г. Юго-Западного фронта под командованием генерала Н. Ф. Ватутина в глубочайшей тайне готовил свои директивные документы. В них отмечалось: «Основной замысел операции «Уран» — окружение и разгром немецких войск, действующих в Донской излучине и на Сталинградском направлении. Ближайшей задачей Юго-Западного фронта является разгром 4-й румынской армии, выход в тыл сталинградской группировки немецких войск и окружении их с целью последующего уничтожения во взаимодействии с войсками Сталинградского и Донского фронтов»[131]. Сегодня мы знаем, что эта задача была блестяще выполнена с 19 ноября 1942 по 2 февраля 1943 г., тогда как судьба операций по названию других планет (театры действий которых располагались с севера на юг в том же порядке как планеты солнечной системы отстоят от Солнца. — М. М.) долгое время оставались за пределами всестороннего рассмотрения. Чем объяснить такое обстоятельство? Фактом их нереализованности? Отчасти это так. «Сатурн» — создание капкана для вражеских войск на всем Северном Кавказе — был заменен «Малым Сатурном» в связи с угрозой деблокады немецкой 6-й армии. В связи с этим рухнула и надежда на быстрое выключение из войны Румынии «путем полного разгрома румынской армии», которая, несомненно, присутствовала во фронтовых штабах в конце 1942 года[132]. Нет пока точных данных о плане «Юпитер», поскольку его Ставка ВГК намеревалась ввести в действие вслед за «Марсом». Последнюю же операцию некоторые западные историки успели окрестить «самым большим поражением маршала Г. К. Жукова»[133]. В отечественной историографии она известна также как вторая Ржевско-Сычевская операция, проведенная с 25.11.1942 по 20.12.1942 г. с первоочередной целью исключить переброску немецких резервов под Сталинград.
Замысел и осуществление этой операции требуют отдельного научного анализа. Стоит лишь заметить, что ко времени ее разработки предыдущее наступление Красной Армии на этом направлении уже выдохлось, тогда как Ставка по-прежнему стремилась ликвидировать Ржевский выступ. К 12 октября 1942 г. планы по окружению там германских войск были в основном подготовлены командованием Западного и Калининского фронтов. Казалось, напрашивается вывод — обе операции, «Уран» и «Марс», были задуманы и проводились как единое целое. То есть в своей совокупности они были призваны резко изменить стратегическую обстановку на советско-германском фронте и, возможно, уже в 1943 году полностью разрешить вопрос о поражении Германии в войне с Советским Союзом. Но следует иметь в виду, что Кремль отдавал себе отчет в том, что без открытия союзниками второго фронта в Европе говорить о скором поражении Германии преждевременно. К тому же, операцию «Марс», как уже было сказано, хотели начать еще в октябре 1942 г., чему помешали погодные условия. Все это говорит о том, что советское командование стремилось как можно скорее сковать германские войска на Западном направлении, но отнюдь не рассматривало операцию «Марс» как равнозначную «Урану». Наконец, для того, чтобы с большей надежностью исключить переброску немецких резервов с центрального участка на юг советская разведка подбросила 4 ноября 1942 г. через агента-двойника «Макса» (А. Демьянова) «информацию» о том, что главный удар по противнику Красная Армия нанесет 15 ноября именно под Ржевом. Об этом пишет один из руководителей советской разведки Павел Судоплатов[134]. Знал ли об этой «дезе» Г. К. Жуков — остается загадкой. Маловероятно, однако, чтобы Верховный и Генеральный штаб скрывали от Жукова подлинные цели операции. Несмотря на все трудности, войскам Западного и Калининского фронтов удалось в конце ноября 1942 г. на ряде участков вклиниться во вражеские позиции и ввести в прорыв подвижные корпуса. Однако их судьба оказалась незавидной. Резервы противника решили исход дела не в пользу советских соединений, которые были вынуждены отступить, теряя людей и технику. Безвозвратные потери РККА в ходе второй Ржевско-Сыческой операции были чрезвычайно велики: 70,4 тыс. человек и 1366 танков[135]. Однако «Марс» самым решительным образом способствовал успешному осуществлению «Урана», не позволил немцам перебросить на юг сколько-нибудь значительные силы. Нельзя также сбрасывать со счетов тот факт, что руководство в Кремле имело все основания опасаться осенью 1942 г. возобновления немецкого наступления на советскую столицу. В этом отношении операция Западного и Калининского фронтов против Ржевского выступа была не просто оправдана, но и необходима. Вопрос же о том, имелись ли у Жукова реальные шансы добиться победы на Западном направлении уже в конце 1942 года носит больше виртуальный характер. Очевидно, Сталин сделал ставку именно на операцию «Уран», равно как и то, что операция «Марс» не стала вторым Сталинградом. Однако ясно и другое, что Жуков вместе с командующими фронтами пытался привести в действие самый решительный замысел по окружению и последующему уничтожению мощнейшей вражеской группировки. Но сделать это в то время не удалось.
Сорок второй год по праву можно назвать переломным в ходе Великой Отечественной войны. Его начало пришлось на период контрнаступления Красной Армии под Москвой, завершение — на момент боев по уничтожению окруженных германских войск под Сталинградом. Но между этими двумя событиями советскому народу пришлось пережить страшные испытания, подойти к краю пропасти, но не потерять надежды и выстоять. Весной–осенью 1942 г. произошли кардинальные изменения в масштабах выпуска военной продукции, снабжении и подготовки новых формирований, усовершенствовалась структура Действующей армии. Более того, как писал американский журналист У. Керр, в тот отрезок времени «набирали силу постоянно действующие факторы, которые были неподвластны немецкому солдату, армии, с которыми и высшее германское командование тоже ничего не могло поделать. И в растущей степени все определялось одним: немцы воевали на чужой земле, далеко от своего дома, тогда как русские защищали свой порог и все то, что составляло их жизнь, что было для них главным в жизни, ее смыслом… Русский же солдат четко знал, что его Родина подверглась нападению… И выбор у него был невелик — принять рабство или дать отпор врагу. Он избрал второй вариант». Красная Армия училась воевать. «Русские, — продолжает У. Керр, — отступая перед превосходящими силами вермахта и в то же время контратакуя, в первую очередь полагались на пехоту и артиллерию, которые составляли сильный элемент их вооруженных сил… использовали те или иные преимущества местности, на них работала погода, сложности жизнеобеспечения вражеских вооруженных сил в такой громадной по территории стране…»[136]. Но за науку была заплачена страшная цена. Только безвозвратные потери Вооруженных Сил СССР составили в сорок втором 3,25 млн чел. — больше, чем за любой другой год войны[137]. После Сталинграда Советский Союз предъявил полное право быть победителем. Однако сроки окончания войны зависели не только от него. Союзники пока не спешили открывать второй фронт. Впереди предстоял еще один год испытаний, борьбы с раненым, но все еще смертельно опасным противником.
 Автор: Михаил Юрьевич Мягков — д.и.н., профессор кафедры отечественной и всемирной истории , заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН.
Автор: Михаил Юрьевич Мягков — д.и.н., профессор кафедры отечественной и всемирной истории , заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН.
[1] Центральный архив Министерства обороны РФ (далее: ЦАМО РФ). Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1079. Л. 21.
[2] Вегнер Б. Второй поход Гитлера против Советского Союза. Стратегические концепции и историческое значение. / Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследований / под ред. В. Михалки. Пер. с нем. М.: Весь мир, 1996. С. 519.
[3] Рейнгардт К. Поворот под Москвой. Крах гитлеровской стратегии зимой 1941/42 г. Пер. с нем. М.: Воениздат, 1980. С. 219.
[4] Цит. по: Невзоров Б. Перелом в войне: проблемы и суждения // Геополитика и безопасность. 1995. № 3. С. 98.
[5] История Второй мировой войны, 1939–1945. М., 1975. Т. 5. С. 12.
[6] Опубл. в: Ржешевский О. А. Война и дипломатия. Документы, комментарии, 1941–1942. М.: Наука, 1997. С. 26–28.
[7] А. Гарриман — помощник и доверенный человек Рузвельта; в то время специальный представитель президента по делам ленд-лиза в Великобритании, с 1943 г. — посол США в СССР.
[8] Department of State. Memorandum of Conversation, A. Harriman and R. Atherton, January 22, 1942. — NA. RG 59. Entry 373. Box 31.
[9] Leshuk L. US Intelligence Perceptions of Soviet Power, 1921–1946. L.: Frank Cass, 2003. P. 144.
[10] Самсонов А. М. Сталинградская битва, 4-е изд., испр. и доп. — М.: Наука, 1989. С. 627.
[11] Leshuk L. US Intelligence Perceptions of Soviet Power, 1921–1946. L.: Frank Cass, 2003. P. 144, 146.
[12] Подробнее о Ржевско-Вяземской операции 1942 г. см. в новой книге российских, украинских и белорусских историков: «1941 год: Страна в огне». Кн. 1–2. М., 2011.
[13] Более 1 млн человек, сражавшихся у стен столицы, были награждены медалью «За оборону Москвы», учрежденной в 1944 г., 110 человек удостоены звания Героя Советского Союза. К 20-летию победы в Великой Отечественной войне, в мае 1965 г., Москве было присвоено почетное звание «Город-герой».
[14] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1079. Л. 31.
[15] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1079. Л. 37–38, 42–44.
[16] Нехватка техники и вооружения, огромные потери в танках РККА в начале войны поставили вопрос о расформировании мехкорпусов. Директивным письмом от 15.07.41 г. Ставка дала указание расформировать все мехкорпуса, кроме двух в МВО, на базе которых было решено создать 10 танковых дивизий (по 217 танков). В состав стрелковых дивизий было приказано включать танковые роты для поддержки пехоты. Постановлением ГКО от 24.08.41 г. стали формироваться танковые батальоны и танковые бригады. На базе танковых дивизий были созданы 65 танковых бригад. С конца 1941 г. формирование танковых войск было передано в штаб ГАБТУ, создав в нем управление формирования. Такое же управление было создан в штабе ВВС. (Горьков Ю. А. Государственный комитет обороны постановляет (1941–1945). Цифры, документы. М., 2002. С. 121.)
[17] Горьков Ю. А. Государственный комитет обороны постановляет (1941–1945). Цифры, документы. М., 2002. С.122–123.
[18] Там же. С.124–125.
[19] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1079. Л. 34.
[20] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1080. Л. 15–16.
[21] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1080. Л. 12.
[22] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1080. Л. 9–11, 16–17.
[23] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1079. Л. 37–38.
[24] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1080. Л. 18–19.
[25] Исаев А. В. Об объективных и субъективных факторах битвы за Москву // Вестник МГИМО (Университета). 2012. № 1 (22). С. 33.
[26] Там же. С. 33–34.
[27] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1079. Л 32–33.
[28] Великая Отечественная война 1941–1945 гг. В 12-ти тт. Т. 1. Основные события войны. М., 2011. С. 241–242.
[29] Боевые действия 2-й ударной армии на ленинградском направлении в рамках Любаньской наступательной операции (январь–апрель 1942 г.) и летом 1942 г. будут подробно описаны ниже в разделе «Попытки деблокады Ленинграда».
[30] Энциклопедия «Демянский котел»…. Гриф секретности… (Сев-Зап фр….)
[31] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1462. Л. 69–70.
[32] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1462. Л. 65.
[33] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1462. Л. 66–67.
[34] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1462. Л. 68–69, 50.
[35] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1462. Л. 10–20, 81–85.
[36] В 16-й армии на тот период имелось существенное количество и американских танков, поставленных в СССР по ленд-лизу (90 МК-2 и 6 МК-3). 10-й танковый корпус потерял в начале июля 24 танка МК-2. Однако советские танкисты, командование и технические службы относились к этим американским машинам в целом положительно. Так, отмечалось, что в 192 танковой бригаде танки МК «при всех конструктивных недочетах» были признаны «удовлетворяющими требованиям боя» (ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1462. Л. 109).
[37] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1462. Л. 97, 109.
[38] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1462. Л. 96, 98–99.
[39] Шацилло В. К. Севастополя оборона // Великая Отечественная война: Энциклопедия. М., 2010. С. 520–522.
[40] ЦАМО РФ. Ф. 229. Оп. 164. Д. 799. Л. 244–246.
[41] ЦАМО РФ. Ф. 229. Оп. 164. Д. 844. Л. 247–248.
[42] Харитонов Фёдор Михайлович (1899–1943) — советский военачальник, генерал-лейтенант. В ходе Великой Отечественной войны с июня 1941 г. заместитель начальника штаба Южного фронта, с сентября 1941 года командующий 9-й армией Южного фронта, с июля 1942 года командующий 6-й армией Воронежского, позже Юго-Западного фронта. Участвовал в Сталинградской битве, Острогожско-Россошанской, Донбасской наступательных операциях и др. Умер 28 мая 1943 года от тяжёлой болезни. В городе Рыбинске установлен монумент генералу Харитонову, также в честь него названо пехотное училище в Ярославле.
[43] Мартынов В. Е. Харьковское сражение // Великая Отечественная война: Энциклопедия. М., 2010. С. 635–637.
[44] Великая Отечественная война 1941–1945. В 12-ти тт. Т. 1 Основные события войны. М., 2011. С. 242
[45] ЦАМО РФ. Ф. 229. Оп. 164. Д. 844. Л. 6–12.
[46] ЦАМО РФ. Ф. 229. Оп. 164. Д. 844. Л. 162.
[47] ЦАМО РФ. Ф. 229. Оп. 164. Д. 844. Л. 171–202.
[48] ЦАМО РФ. Ф. 229. Оп. 164. Д. 844. Л. 362–365.
[49] Великая Отечественная война 1941–1945. Т. 1. Основные события войны. М., 2011. С. 242.
[50] Там же. С. 243–244.
[51] Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 2 тт. М., 2002 С….
[52] Португальский Р. М. Доманк А. С., Коваленко А. П. Маршал С. К. Тимошенко. М., 1994. С. 249–250.
[53] Совершенно секретно! Только для командования. Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы и материалы. М., 1967. С. 388.
[54] Василевский А. М. Дело всей жизни. М., 1978. С. 211.
[55] ВОВ. Т. 1. Основные события войны. М., 2011. С. 245–247.
[56] Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 2 тт. Т. 2. М., 2002. С. 70.
[57] Цит. по: Гареев М. А. Сражение на Волге // Живая память. Великая Отечественная: Правда о войне. В 3-х тт. М., 1995. С. 51.
[58] Чуйков В. И. Сражение века. М.: Советская Россия, 1975. С. 39.
[59] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1080. Л. 104–110.
[60] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1080. Л. 109–110.
[61] Сталинградская эпопея. Материалы НКВД СССР и военной цензуры из Центрального архива ФСБ РФ. М., 2000. С. 230.
[62] Там же. С. 231–232.
[63] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1080. Л. 159–160
[64] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1080. Л. 110.
[65] ВОВ. Т. 1. Основные события войны. М., 2011. С. 247
[66] Гальдер Ф. Военный дневник / Пер. с нем. М., 1971. Т. 3. Кн. 2. С. 623.
[67] ЦАМО РФ. Ф. 48. Оп. 451. Д. 54. Л. 1–4.
[68] ЦАМО РФ. Ф. 48. Оп. 451. Д. 54. Л. 5–7.
[69] ЦАМО РФ. Ф. 48. Оп. 451. Д. 54. Л. 5–7.
[70] ЦАМО РФ. Ф. 48. Оп. 451. Д. 54. Л. 8–9.
[71] Еременко А. И. Сталинград. Записки командующего фронтом. М., 1961. С. 148.
[72] ВОВ. Т. 1. Основные события войны. М., 2011. С. 252.
[73] Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 2 тт. Т. 2. М., 2002. С. 73–77.
[74] Великая Отечественная война 1941–1945. В 12 тт. Т. 1. Основные события войны. М., 2011. С. 252.
[75] Павлов Я. Ф. В Сталинграде. (Фронтовые записки). Сталинград, 1951; Савельев Л. И. Дом сержанта Павлова. (Сталинградская хроника). М., 1960.
[76] Великая Отечественная война 1941–1945. В 12 тт. Т. 1 Основные события войны. М., 2011. С. 254.
[77] Clark A. Barbarossa. The Russian-German Conflict 1941–1945. L., 1985. P. 231.
[78] Дёрр Г. Поход на Сталинград. М.: Воениздат, 1957. С. 56.
[79] Чуйков В. И. От Сталинграда до Берлина. М.: Сов. Россия, 1985. С. 245–249.
[80] Там же. С. 260–261.
[81] История Второй мировой войны. В 12 тт. Т. 5. М., 1975. С. 207–208.
[82] Великая Отечественная война 1941–1945. В 12 тт. Т. 1. Основные события войны. М., 2011. С. 257.
[84] Черный В. И. Кубань в пламени битвы за Кавказ. // Великая Победа, добытая единством. Кавказ в годы Великой Отечественной войны. М., 2011. С. 103–105.
[85] Круглов А. И. Ставрополье в битве за Кавказ. // Великая Победа, добытая единством. Кавказ в годы Великой Отечественной войны. М., 2011. С. 89–94.
[86] Бугай Н. Ф. Представители репрессированных народов на защите Отечества в годы Великой Отечественной войны: доблесть и слава // Великая Победа, добытая единством. Кавказ в годы Великой Отечественной войны. М., 2011. С. 155–156.
[87] ЦАМО РФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 14. Л. 5–19.
[88] Великая Отечественная война 1941–1945. В 12 тт. Т. 1. Основные события войны. М., 2011. С. 258.
[89] Герасимова С. А. Первая Ржевско-Сычевская операция 1942 г. (Новый взгляд).
[90] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1087. Л. 1–2, 10–11, 64–70.
[91] Ржевская битва: Сражение за Полунино (30 июля — 23 августа 1942 г.) Сборник статей и материалов / сост. Б. Ершов, О. Кондратьев, С. Балашов. Тверь, 2001.
[92] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1087. Л. 64–70.
[93] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 180. Л. 38–39.
[94] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 180. Л. 47–49.
[95] Красная звезда. 1942. 27 сент.
[96] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1087. Л. 2–4, 62.
[97] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1087. Л. 55.
[98] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1087. Л. 4–5.
[99] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1087. Л. 19–29.
[100] ЦАМО РФ. Ф. 232. Оп. 590. Д. 147. Л. 1–20.
[101] Листиков С. В. Ржевско-Сычевская наступательная операция 1942 г. // Великая Отечественная война. Энциклопедия. М., 2010. С. 498–499.
[102] Россия и СССР в войнах ХХ века: Потери Вооружённых Сил / Г. Ф. Кривошеев. М. 2001. С. 312
[103] В связи с тем, что Г. К. Жуков был назначен заместителем Верховного Главнокомандующего, 26 августа командующими Западного фронта стали генерал-полковник И. С. Конев, а Калининского — генерал-полковник М. А. Пуркаев.
[104] Герасимова С. А. Первая Ржевско-Сычевская операция 1942 г. (Новый взгляд). ; см. также Гроссманн X. Ржев — краеугольный камень Восточного фронта. Ржев. 1996. Гальдер Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника Генерального штаба Сухопутных войск 1939–1942 гг. — М., 1968–1971. С. 321.
[105] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 180. Л. 70–71.
[106] Служба труда рейха (Имперская служба труда). Закон 1935 года объявлял трудовую повинность обязательной для всех граждан Германии в возрасте от 19 до 25 лет в рамках созданной Имперской службы труда. Молодые немцы, без учета их профессии, несколько раз в год направлялись работать в трудовые лагеря (на строительство, сельхозработы и др.), в которых поддерживалась строжайшая дисциплина. По мнению Гитлера, эта молодежь в будущем должна стать закаленным ядром вооруженных сил. В годы войны специальные подразделения службы труда направлялись на сооружение оборонительных позиций.
[107] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 180. Л. 69.
[108] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 180. Л. 69–70.
[109] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1087. Л. 30–41–44.
[110] Соломатин Михаил Дмитриевич (5 декабря 1894 — 22 ноября 1986) — советский военачальник, генерал-полковник танковых войск (26.10.44). С 19.04. по 8.09.1942 г. — командир 8-го танкового корпуса, позднее — командир 1-го Красноградского механизированного корпуса. В конце войны начальник штаба Управления командующего Бронетанковыми и механизированными войсками РККА.
[111] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1087. Л. 17.
[112] ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1087. Л. 73–74
[113] См.: Мерецков К., На волховских рубежах, «ВИЖ», 1965, № 1.
[114] Власов Андрей Андреевич (1.09.1901 — 1.8.1946), генерал-лейтенант РККА, перешедший в годы Великой Отечественной войны на сторону гитлеровской Германии, организатор Русской освободительной армии (РОА). Великую Отечественную войну встретил в районе Львова в качестве командира 4-го механизированного корпуса. С 23 июля — командир 37-й армии Юго-Западного фронта. В ходе Московской битвы назначен командующим 20-й армией Западного фронта, которая участвовала в контрнаступлении под Москвой. Однако непосредственного участия в руководстве войсками до 19 декабря 1941 г. Власов не принимал, находясь на излечении. В марте 1942 г. назначен заместителем командующего Волховским фронтом, а с 20 апреля — командующим 2-й Ударной армией. Отказался эвакуироваться из «котла» на самолете, и 12 июля 1942 г. сдался в плен. С первых дней нахождения в плену Власов пошел на сотрудничество с немцами. Уже 3 августа 1942 г. он направил германскому командованию меморандум с предложениями по подрыву боеспособности Красной Армии и деморализации ее тыла. Весной 1943 г. ему была организована поездка и выступления перед населением некоторых оккупированных городов. Осенью 1944 г. Власову было дано разрешение на политическую деятельность и создание собственных вооруженных сил. 14 ноября 1944 г. в Праге был образован так называемый Комитет освобождения народов России (КОНР), возглавить который было поручено Власову. Власов был захвачен и арестован 12 мая 1945 г. вблизи г. Брежи (Чехословакия) патрулем советского 25-го танкового корпуса и через три дня доставлен в Москву. 31 июля 1946 Военной Коллегией Верховного Суда СССР Власов вместе с другими 11 руководителями КОНР был признан виновным в измене Родине и приговорен к смертной казни через повешение. В ночь на 1 августа приговор был приведен в исполнение.
[115] Шигин Г. А. Битва за Ленинград: крупные операции, «белые пятна», потери / под редакцией Н. Л. Волковского. СПб, 2004. С. 154–176.
[116] Мерецков К. А. На службе народу. М. 1988. С. 295.
[117] Сяков Ю. А. Синявинская операция советских войск 1942 года // Вопросы истории. 2008. №6. С. 84.
[118] Сяков Ю. А. Синявинская операция советских войск 1942 года // Вопросы истории. 2008. №6. С. 84.
[119] ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 762. Л. 80.
[120] ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 762. Л. 81–83.
[121] ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 762. Л. 72–79.
[122] ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 762. Л. 84–95.
[123] Манштейн Э. Утерянные победы. М., 1999. С. 300–301.
[124] Манштейн Э. Утерянные победы. М., 1999. С. 301.
[125] Сяков Ю. А. Синявинская операция советских войск 1942 года // Вопросы истории. 2008. №6. С. 92–93. См. также: Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК: Документы и материалы: 1942 год. Т. 16(5–2). М., 1996. С. 409.
[126] Мощанский И. Б. Прорыв блокады Ленинграда. Эпизоды великой осады. 19 августа 1942 — 30 января 1943 года. М., 2010. С. 68–83.
[127] Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооруженных сил: Статистическое исследование / под общ. ред. Г. Ф. Кривошеева. М.: Олма-Пресс, 2001. С. 312.
[128] Сяков Ю. А. Численность и потери германской группы армий «Север» в ходе битвы за Ленинград (1941–1944 гг.) //
[129] Leshuk L. US Intelligence Perceptions of Soviet Power, 1921–1946. L.: Frank Cass, 2003. P. 158–159.
[130] Report by the Joint Intelligence Sub-Committee («The Capacity of the Soviet Forces to Defend South Caucasian»), November 14, 1942. NA. RG 218. Entry CCS/JCS «Geographical files». Box 214.
[131] ЦАМО РФ. Ф. 232. Оп. 590. Д. 137. Л. 39–40.
[132] ЦАМО РФ. Ф. 232. Оп. 590. Д. 17. Л. 4.
[133] Glantz D. M. Zhukov’s Greatest Defeat. The Red Army’s Epic Disaster in Operation Mars, 1942. University Press of Kansas, 1999.
[134] Судоплатов П. Разведка и Кремль. М., 1996. С. 187–188.
[135] Орлов А. С. Операция «Марс»: различные трактовки / Мир истории. 2000. №4.
[136] Живая память. Великая Отечественная: правда о войне. В 3 тт. Т. 2. М., 1995. С. 35–37.
[137] Россия и СССР в войнах ХХ века. Потери Вооруженных сил. Статистическое исследование / под общей редакцией Г. Ф. Кривошеева. М., 2001. Табл. 133.
- 11892 просмотра
В МГИМО обсудили геополитическое значение Сталинградской битвы

14 февраля в Университете состоялась международная научно-практическая конференция «Влияние победы под Сталинградом на геополитическое положение в мире». Форум был организован Институтом международных исследований и Центром военно-политических исследований МГИМО в рамках Спецпроекта «Сталинград». Участники подчеркнули, что победа под Сталинградом стала переломным моментом как в Великой Отечественной, так и во всей Второй мировой войне. В ходе конференции состоялась презентация изданной в МГИМО книги «Сталинградская битва и ее геополитическое значение».
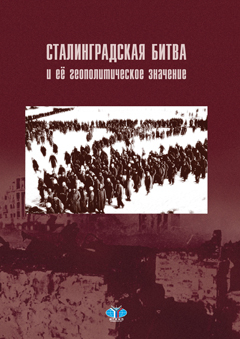
В МГИМО собрались эксперты, ученые, депутаты, представители общественных организаций и оборонно-промышленного комплекса, представители дипкорпуса из стран Антигитлеровской коалиции.
Со вступительным словом к участникам конференции обратился ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Он отметил, что Сталинградская битва стала своеобразной точкой бифуркации, определившей дальнейший ход войны и развитие всего мира. «Несомненно, наша победа на Волге стала не только национальным символом консолидации духа, но и событием мирового масштаба», — подчеркнул ректор.

Битва под Сталинградом получила высочайшие и даже восторженные оценки руководителей стран антигитлеровской коалиции, напомнил А.Торкунов. На пресс-конференции 2 февраля 1943 года У.Черчилль отметил, что Сталинград — «великолепный боевой подвиг» русского народа и «величайшее поражение для Германии», а король Георг VI прислал Сталинграду дарственный меч, на клинке которого на русском и английском языках выгравирована надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, — от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа».

Анатолий Васильевич отметил, что президент США Ф.Рузвельт назвал Сталинградскую битву «поворотным пунктом в войне Объединенных Наций против сил агрессии». В послании И.Сталину он выражал восхищение доблестными защитниками, «храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 года будут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии».

На состоявшейся в МГИМО конференции было оглашено обращение к участникам форума заместителя председателя Правительства Российской Федерации Д.Рогозина. В своем письме он отметил, что победа под Сталинградом — одно из важнейших событий в истории нашей страны. «Победа в битве на Волге — настоящий подвиг наших солдат, память о котором мы должны поддерживать». Дмитрий Олегович подчеркнул, что нынешняя конференция — отличный способ отдать дань уважения мужеству наших ветеранов, и пожелал участникам форума плодотворной и интересной работы.
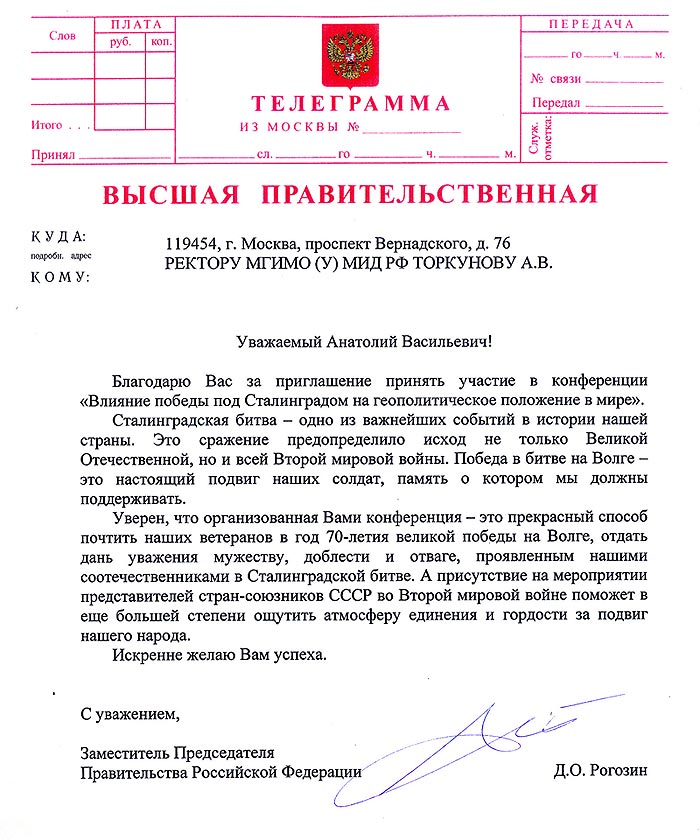
С докладами на конференции выступили посол Словацкой Республики Йозеф Мигаш, посол Республики Сербия Славенко Терзич, заместитель руководителя «Россотрудничества» Г.Мурадов, главный редактор журнала «Международная жизнь» А.Оганесян, заведующий кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО В.Печатнов, профессор Академии военных наук М.Мягков, заведующий кафедрой истории, философии и культурологи МГГУ им. М.А.Шолохова Ю.Никифоров, член-корреспондент РЕАН А.Падерин, профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО С.Монин, с.н.с. Института международных исследований МГИМО Л.Гусев и другие. Участники конференции проанализировали значение Сталинградской битвы, которая стала переломным моментом как в Великой Отечественной, так и во всей Второй мировой войне, во многом предопределив будущую победу.

В ходе конференции директор ИМИ А.Орлов презентовал книгу о Сталинградской битве, только что вышедшую в издательстве «МГИМО-Университет». В нее вошли статьи М.Мягкова, С.Монина, А.Исаева, Е.Кулькова, Д.Хазанова, А.Борисова, А.Ахтамзяна и А.Серегина, а также введены в научный оборот новые недавно рассекреченные материалы. Авторы книги анализируют сложившееся стратегическое положение перед началом сражения, непосредственно боевые действия, а также то влияние, которое оказал разгром фашистский войск в Сталинградском котле на дальнейший ход войны.

В конференции, посвященной Сталинградской битве, также приняли участие заместитель генерального директора Концерна ПВО "Алмаз-Антей" А.А. Недашковсикй, советник-посланник посольства Казахстана Н.Сейтимов, советник посольства Узбекистана Р. Алимов, военный атташе Франции бригадный генерал Нюттингс Гай (Nuyttens Guy) , военный атташе США Т.Блэкберн (Taft Blackburn), атташе Кыргызской Республики Ч.Н. Исмаилова, советник посольства Республики Молдова Э.А. Мелник, советник посольства Чешской Республики Петер Кроужек (Petr Krouzek), первый секретарь посольства КНР Ян Фенг (Yan Feng), второй секретарь посольства Польши М. Кубицка, второй секретарь посольства Украины Е.Н. Курило, представители других дипломатических миссий в Москве, преподаватели и студенты МГИМО.
Источник: Портал МГИМО
Фотограф И. Лилеев
- 4274 просмотра
Видеозапись международной конференции «Влияние победы под Сталинградом на геополитическое положение в мире» (Часть 1)
Видеозапись международной конференции «Влияние победы под Сталинградом на геополитическое положение в мире», которая проходила в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) 14 февраля 2013, Часть 1
В этой части:
Ведущий конференции Орлов Александр Арсеньевич – к.и.н., профессор, директор Института международных исследований МГИМО (У) МИД России
Вступительное слово Ректора МГИМО (У) МИД России, Академика РАН, профессора Анатолия Васильевича Торкунова (0:02:52)
Фетисов Вячеслав Васильевич – директор Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета «Победа» - приветственное обращение от Заместителя Председателя Правительства РФ, д.фил.н Дмитрия Олеговича Рогозина (13:35)
Йозеф Мигаш – Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики - доклад «Сталинградская битва и Словакия» (0:15:53)
Славенко Терзич – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия (0:33:51)
Мурадов Георгий Львович – заместитель руководителя Федерального агентства «Россотрудничество» (0:45:30)
Оганесян Армен Гарникович – главный редактор журнала «Международная жизнь» МИД России, Советник министра иностранных дел России – доклад «Сталинград. История повелительного наклонения» (0:58:00)
Печатнов Владимир Олегович – д.и.н., профессор, заведующий кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО (У) МИД России – доклад «Сталинградская битва и союзнические отношения» (1:18:04)
Мягков Михаил Юрьевич – д.и.н., профессор Академии военных наук, профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО (У) МИД России – доклад «Сталинградская битва и вопросы послевоенного устройства Европы» (1:37:59)
- 1640 просмотров
Видеозапись международной конференции «Влияние победы под Сталинградом на геополитическое положение в мире» (Часть 2)
Видеозапись международной конференции «Влияние победы под Сталинградом на геополитическое положение в мире», которая проходила в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) 14 февраля 2013, Часть 2
- 1703 просмотра
Документальный фильм к 70-летию Сталинградской битвы
Подвиг Защитников Сталинграда известен всему миру. Именно здесь в 1942-43 годах решались дальнейшие судьбы планеты. Для гитлеровцев этот город имел особое значение не только, как важный военно-политический, экономический и транспортный центр. Они прекрасно понимали, что город, где взошла звезда Сталина, город-символ носящий его имя, играет ключевую роль в патриотическом сознании советского народа.
Именно поэтому они с такой яростью обрушили на него бомбы 23 августа 1942 года, а потом атаковали вновь и вновь. Военная машина вермахта захлебнулась на берегах Волги. Беспримерный подвиг советских солдат и офицеров, стоявших на смерть 200 огненных дней и ночей, сказавших себе и другим "За Волгой для нас земли нет", сломавших хребет фашистскому зверю, получил огромный резонанс в мире, спасенном от "коричневой чумы" и стал началом конца гитлеровской Германии. Сталинград выстоял потому, что именно в нем воплотился весь смысл Родины. Именно потому больше нигде в мире не было такого массового героизма. Здесь сконцентрировалась вся духовная, моральная сила нашего народа. Главное для нас, разработчиков сайта, было показать, кто были эти чудо-богатыри. Чем они тогда жили, как воевали и что их вдохновляло. Вместе с тем, очень важным было также продемонстрировать какой серьезнейший, сильнейший и умнейший противник противостоял им.
События Сталинградской битвы имели колоссальное значение для дальнейшего хода Второй мировой войны, это был точка великого перелома в его ходе. И признанием этого вклада служат не только грамота американского президента Франклина Рузвельта и меч английского короля Георга VI , бережно хранимые ныне в Волгоградском государственном музее-панораме "Сталинградская битва", но и площади и улицы имени Сталинграда в Париже и Лондоне, других странах Европы и Америки, а также тот неоспоримый факт, что во всем мире из всех драматических моментов Второй мировой войны на Восточном фронте, единственно известный ныне - Сталинградская битва.
- Блог пользователя DSalyukov
- 2248 просмотров
Как вы относитесь к идее переименования Волгограда в Сталинград?
- 1742 просмотра
Конференция «Влияние победы под Сталинградом на геополитическое положение в мире»
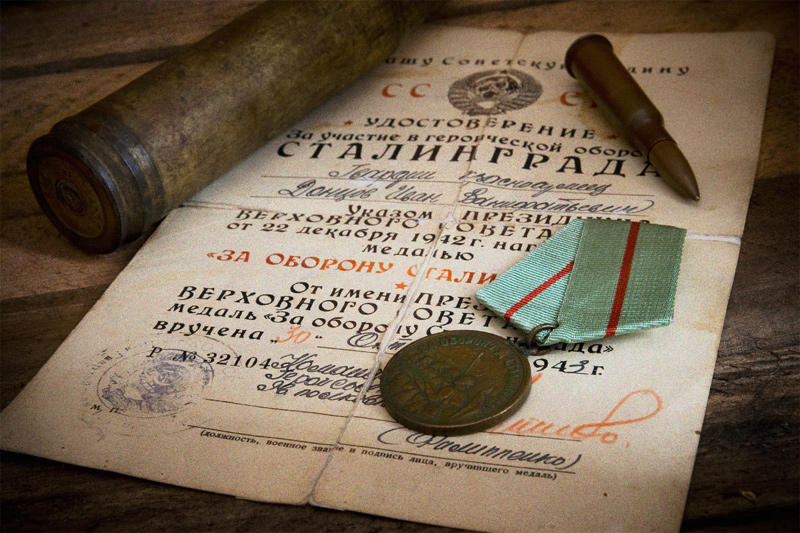
Центр военно-политических исследований МГИМО (У) МИД России, в рамках спецпроекта «Сталинград», проводит международную научно-практическую конференцию «Влияние победы под Сталинградом на геополитическое положение в мире».
Концепция конференции состоит в развитии тезиса о Сталинградском сражении как коренном переломе в Великой Отечественной войне советского народа и во всей Второй мировой войне. После Сталинграда всему миру стало ясно, что война для коалиции фашистских агрессоров проиграна. Разгром под Сталинградом союзных Германии войск надломил фашистский блок, заставив Италию, Румынию, Венгрию и Финляндию активно искать контакты со странами антигитлеровской коалиции с целью выхода из войны. Развернувшиеся события положили конец расчетам на вступление в войну против СССР Турции и Японии, явились решающим стимулом для роста движения сопротивления в Европе и Азии. Сталинградская битва получила высочайшие и восторженные оценки руководителей стран антигитлеровской коалиции.
В рамках конференции также состоится презентация одноименной книги.
На конференцию приглашены представители стран Антигитлеровской коалиции, государственные деятели, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, ученые, представители общественных организаций и оборонно-промышленного комплекса, представители дипкорпуса.
Конференция состоится 14 февраля (четверг) 2013 года в МГИМО (У) МИД России. Начало конференции в 10.00, аудитория 423 (новый корпус).
Желающим принять участие в конференции, не являющихся сотрудниками или учащимися МГИМО, необходимо до 12 февраля прислать на электронную почту ЦВПИ следующие данные: ФИО, гражданство, место работы, должность. О получении данных и заказе на Вас пропуска будет сообщено в ответном письме.
Просим обратить внимание, что вход в МГИМО возможен только после предварительного заказа пропуска и только при наличии паспорта.
- 3098 просмотров
Ленд-лизовский транзит через Иран и Каспий в 1941–1942 годах
«Немцы назначили адмирала… на Каспийское море»
К вопросу об обеспечении ленд-лизовского транзита через Иран и Каспий в 1941–1942 годах
 «Немцы назначили адмирала, которому будут поручены военно-морские операции на Каспийском море», — писал 30 сентября 1942 года премьер-министр Великобритании У. Черчилль председателю Совнаркома СССР И. В. Сталину[i].
«Немцы назначили адмирала, которому будут поручены военно-морские операции на Каспийском море», — писал 30 сентября 1942 года премьер-министр Великобритании У. Черчилль председателю Совнаркома СССР И. В. Сталину[i].
Немцы не только на Кавказе, но и на Каспийском море? Было ли такое возможно и что это означало бы для советско-германского фронта и для хода всей мировой войны? Как и в какой обстановке в период Московской битвы и Сталинградского сражения создавался транспортный путь через Персидский залив, Иран, Кавказ и Каспий, связавший СССР с западными союзниками и сыгравший столь значительную роль в обеспечении ленд-лизовских поставок в Советский Союз?
Значение этого пути для хода войны на восточном фронте в Берлине осознали не сразу. Но уже при определении планов гитлеровского командования на летнюю кампанию 1942 года не последнюю роль cыграло стремление пресечь набиравшие обороты поставки грузов по ленд-лизу по южному («персидскому») коридору. «Не подозревая о возрождении советской военной промышленности, — пишут американские военные историки Д. Гланц и Д. Хадс, — немецкие стратеги сосредоточили внимание на американских и британских поставках по договору „ленд-лиза“ как на ключевом ингредиенте успеха Красной Армии в 1942 году. Наступление на Кавказе лишало бы союзников всякой возможности помогать Советскому Союзу…»[ii]. Некоторые из оценок американских учёных выглядят слишком категоричными («не подозревая…», «ключевой ингредиент»), как и слова об отсутствии «всякой возможности» для союзников помогать СССР, кроме как поставками по южному маршруту. Ведь был еще северный путь по арктическим морям, который, правда, немцы как раз в это время (в 1942 году) активно пытались блокировать своими авиацией и флотом, и путь с востока, через Тихий океан, который вообще был вне досягаемости для гитлеровцев.
Английский исследователь К. Беллами также подчеркивал, что наряду с нефтью и стремлением втянуть в войну Турцию (и тем самым окружить британские владения на Ближнем Востоке), целью Гитлера летом 1942 года было перерезать один из главных путей доставки союзнической помощи России[iii].
Об этих же целях германского командования говорили немецкие авторы. «Нефть и Кавказ были главными факторами, — писал В. Тике. — Одним ударом необходимо было перерезать пути доставки помощи от союзников через Иран… Наряду с захватом нефтяных месторождений главным стремлением немецкого командования в ходе операции „Эдельвейс“ [по захвату Кавказа] было остановить этот поток материалов»[iv]. Несомненно, что прорыв немецко-фашистских войск к Волге, захват Кавказа и выход их к Каспию, помимо всех прочих тяжелейших последствий, по сути разрушил бы с таким трудом создававшийся «персидский коридор» для ленд-лизовских поставок.
Появление этого коридора, казалось, никак не вытекало из событий, предшествовавших нападению Гитлера на Советский Союз. Но получилось так, что в давнюю борьбу России (СССР) и Великобритании за влияние в Иране и на всём Среднем Востоке решительно вмешалась Германия, попытавшаяся военными и политическими средствами поставить под свой контроль этот регион. В итоге после 22 июня 1941 года всё это обернулось советско-английским союзом и превращением Ирана и Каспия в один из важнейших путей доставки ленд-лизовских грузов.
Иран (до 1935 года — Персия) с начала ХIХ века являлся объектом острого соперничества между Россией и Британией. Традиционно упоминалась, например, роль «английских агентов» в разгроме русского посольства и убийстве А. С. Грибоедова в Тегеране в 1829 году. «Большая Игра», которую две империи вели в Центральной Азии, давала о себе знать и на Среднем Востоке.
Ситуация изменилась только в 1907 году, когда Петербург и Лондон подписали соглашение о разделе Персии на русскую (север) и английскую (юг) зоны влияния с буферной зоной между ними. Более того, в годы Первой мировой войны имел место прецедент англо-русской военной акции в отношении Персии. Тогда русские и английские войска действовали с иранской территории против турок на Кавказском и Месопотамском фронтах, вели борьбу против германо-турецкой агентуры[v].
Затем, однако, последовали революция в России, британская интервенция с персидской территории в Закавказье и Закаспий, новый виток соперничества двух держав в межвоенный период.
С началом Второй мировой войны, когда отношения Москвы с Лондоном и Парижем расстроились, казалось, донельзя, рассматривалась возможность нанесения англо-французского удара с юга по основному советскому району нефтедобычи в Баку, а также по Батуми. Для проведения фотосъемок будущих объектов бомбардировок с авиабазы в Хаббании (Ирак) англичане совершили несколько разведывательных полетов над территорией СССР, пересекая при этом воздушное пространство Ирана. В Тегеране нашлись желающие поучаствовать в антисоветских предприятиях. Как утверждается в иранской литературе, шахский военный министр в начале 1940 года обратился к британскому военному атташе с предложением о совместном нападении на СССР и бомбардировке нефтепромыслов в Баку, а также о заключении секретного соглашения о военном сотрудничестве. Англичанам, однако, в тот момент втягивание Тегерана в открытый конфликт с Москвой было ни к чему, ибо в случае ответного удара СССР они едва ли смогли защитить Иран.
Советское командование готовило свои контрмеры. В начале 1940 года был усилен Закавказский военный округ, его командный состав провел игру на оперативных картах, в ходе которой отрабатывалось выдвижение советских войск в сторону Турции и Ирана (на Тебриз)[vi]. По воспоминаниям С. М. Штеменко, в то время старшего помощника начальника ближневосточного отдела Генштаба, осень 1940 и зиму 1941 года пришлось потратить на тщательное изучение и военно-географическое описание ближневосточного театра. В мае 1941 года в Закавказском и Среднеазиатском военном округах были проведены командно-штабные учения[vii].
Реализовать англо-французские планы нападения на СССР помешало начало наступления немецко-фашистских войск на Западном фронте в мае 1940 года.
Между тем во второй половине 1930-х годов у Советского Союза и Великобритании появился новый и очень опасный конкурент в борьбе за влияние в Иране — фашистская Германия. Гитлеровцев Иран интересовал как стратегический плацдарм против СССР и Британской империи, а также как источник сырья, прежде всего нефти (8,4 млн тонн в 1940 году — четвертое место по добыче в мире). Германский фактор становился все более весомым во внутри- и внешнеполитической жизни Ирана. Нацистская пропаганда энергично проталкивала идею об общем «арийском происхождении» и «арийском братстве» немцев и персов. В 1940–1941 годах 45,5% внешней торговли Ирана приходилась на Германию, тогда как на СССР — 11%, Великобританию — 4%. Немцы поставляли промышленное оборудование, направляли специалистов и консультантов, организовали авиалинию Берлин — Кабул, проходившую через Иран. Особенно активно они участвовали в модернизации и расширении железных дорог, столь важных с экономической и стратегической точки зрения. Три четверти паровозов были привезены из Германии, а немецкий персонал встречался повсюду: от центрального управления железными дорогами до паровозных бригад[viii].
Особое беспокойство в Москве и Лондоне вызывали военные связи между Берлином и Тегераном: поставки немецкого оружия и военного снаряжения, направление немецких военных инструкторов и советников в иранскую армию, жандармерию и полицию, обучение иранских курсантов в германских военно-учебных заведениях.
В Иран с разведывательно-диверсионными целями активно внедрялась германская агентура. Она проявляла особый интерес к районам, граничащим с Советским Союзом и Британской империей. Проводилась подготовка к диверсионно-террористическим актам, создавались склады оружия, боеприпасов, взрывчатки. Немцы налаживали связи с представителями российской политэмиграции, с азербайджанской, армянской, грузинской, туркестанской диаспорами. Они устанавливали контакты с вождями племен, которые могли создать большие проблемы для центрального правительства в Тегеране. Прямые агенты Германии и её агенты влияния имелись практически во всех сферах политической и общественной жизни страны. Влияние нацистов ощущалось буквально везде: «от шахского двора до тегеранского базара»[ix].
Озабоченность СССР и Великобритании военно-политической ситуацией в регионе заставила их (пока по отдельности) еще до июня 1941 года обращаться к Тегерану с соответствующими запросами. Так, советская сторона зондировала возможность использования расположенных вблизи границы иранских аэродромов и участков Трансиранской железной дороги для обеспечения защиты своих приграничных районов в случае нападения противника. Ставился также вопрос о предоставлении аэродромов и казарм для размещения войск на иранском побережье Каспийского моря для защиты своих нефтяных месторождений. Английское правительство осенью 1940 года и в начале 1941 года направило Ирану первые ноты протеста против деятельности немецких агентов, коих, по британским разведывательным данным, только в Тегеране было 4 тысячи человек[x]. По другим британским оценкам, в июле 1941 года в Иране проживало 2–3 тысячи германских подданных, включая 1 тысячу мужчин[xi].
Стремительный рост могущества Третьего рейха, его агрессивная, экспансионистская политика вызывали интерес, а порой и восхищение иранской элиты. Наиболее сильны были прогерманские настроения в высшем командном составе армии. В итоге к началу мировой войны нацисты изрядно потеснили в Иране и русских, и англичан.
Вместе с тем, как утверждается в новейших исследованиях отечественных ученых[xii], назвать внешнеполитический курс Ирана полностью прогерманским нельзя. Об этом, в частности, свидетельствовало привлечение к суду осенью 1939 года большой группы профашистски настроенных лиц, обвиняемых в попытке организации государственного переворота. Причем главный обвиняемый — Мохсен Джахансуз, известный тем, что перевёл на фарси «Майн кампф», был расстрелян. Другие лица — военные и гражданские — получили различные сроки заключения.
Правитель страны Реза-шах Пехлеви пытался маневрировать между Москвой, Лондоном и Берлином, волей-неволей все более широко сотрудничая с последним, самым активным и успешным на тот момент игроком из этой тройки. Он рассчитывал, что связи с Германией помогут уравновесить влияние традиционных «покровителей» его страны. При этом шах не терял чувства осторожности и прагматизма, опасаясь, как бы Иран не оказался жертвой очередного «раздела» или «передела» мира. Подобная гипотетическая опасность существовала, например, после советско-германских переговоров в Берлине в ноябре 1940 года, когда поползли слухи о «согласии» Германии предоставить СССР зону влияния к югу от его границ, в сторону Индийского океана.
С началом Второй мировой войны Тегеран 4 сентября 1939 года заявил о своем нейтралитете и подтвердил эту свою позицию 26 июня 1941 года после нападения Германии на Советский Союз.
От исхода грандиозных сражений, развернувшихся на советско-германском фронте, теперь в решающей степени зависела судьба стран Ближнего и Среднего Востока. Гитлер, не сомневаясь в успехе операции «Барбаросса», намеревался после разгрома СССР прорваться в этот регион и дальше двигаться через Иран на Британскую Индию. В директиве № 32 от 11 июня 1941 года верховное главнокомандование вермахта изложило планы действий германских армии, авиации и флота «после уничтожения советских вооруженных сил». В частности, предполагалось оказать сильное давление на Турцию и Иран с целью заставить их принять участие в борьбе против Англии. Британцев предстояло выдавить из Палестины и зоны Суэцкого канала двумя сходящимися ударами: один из Ливии через Египет, другой из Болгарии через Турцию. После крушения Советского Союза планировалось организовать отправку германских экспедиционных сил из Закавказья к нефтяным месторождениям в северном Ираке. В решении этих задач ожидалась поддержка со стороны арабского населения региона, недовольство и мятежи которого должны были связать силы британцев.
В какой-то момент в ходе продвижения вермахта вглубь территории СССР встал вопрос о выборе приоритетного направления наступления. В «Записке от 23 августа 1941 года по вопросу о продолжении операции на советско-германском фронте» фюрер мотивировал своё решение бросить силы не на Москву, а на юг тем, что, в частности, политически было «прежде всего» необходимо «дать Ирану надежду на возможность получения в ближайшее время практической помощи от немцев в случае сопротивления угрозам со стороны русских и англичан»[xiii].
Гитлер неслучайно упомянул о «практической помощи» Ирану против СССР и Великобритании. С учётом складывавшейся ситуации не только на советско-германском фронте, но и в Северной Африке и Средиземноморье это выглядело не столь уж нереальным делом.
В самом Иране немцев, по всей вероятности, уже не устраивал недостаточно уступчивый старый шах. Как отмечается в научной литературе, в июле-августе 1940 года, а затем в августе следующего года профашистские силы собирались осуществить государственный переворот. В подтверждение наличия подобных планов, в частности, указывают на поездку руководителя абвера адмирала В. Канариса в Иран летом 1941 года[xiv].
На Арабском Востоке немцы искусно играли на антиколониальных настроениях масс, выставляя себя в качестве их союзников в борьбе за независимость. В октябре 1940 года Германия и Италия в совместной декларации заявили о своих симпатиях к арабскому национально-освободительному движению и призвали арабов принять участие в ликвидации Британской колониальной империи. У них нашлось не так уж мало сторонников. В их числе оказался, например, муфтий Иерусалима, лидер арабских националистов в Палестине Мухаммад Амин аль-Хусейни. Даже позднее, в 1942 году, во время наступления германо-итальянских войск в Каире проходили массовые демонстрации под лозунгом «Роммель, вперед!»[xv].
Но главное — в первой половине 1941 года в пользу держав «оси» изменилась военно-стратегическая ситуация в регионе. В январе над Средиземным морем появились самолеты люфтваффе. Начались налёты на Мальту — британский бастион в центральной части региона. Производилось минирование Суэцкого канала. Англичане, развернув наступление на вторгшихся осенью 1940 года в Египет итальянцев, к февралю следующего года отбросили их далеко за ливийскую границу. Но вместо того, чтобы добить итальянские войска в Ливии и тем самым лишить Муссолини всякого плацдарма в Северной Африке, в Лондоне, видимо, решили, что разгромленные итальянцы все равно никуда не денутся, а основные британские силы можно бросить на помощь Греции.
Когда внимание англичан переключилось на Балканы, в Ливию в феврале стали прибывать германские войска под командованием генерала Э. Роммеля. В конце марта его Африканский корпус перешёл в наступление и к середине апреля вытеснил англичан из Ливии. Британское командование в мае-июне дважды пыталось переломить ситуацию и перейти в наступление, но успеха не добилось.
Для Великобритании ситуация усугублялась ещё тем, что в апреле Германия разгромила Югославию и Грецию, а в 20-х числах мая немецкие парашютисты после упорных боев захватили остров Крит. Остатки английского экспедиционного корпуса эвакуировались из Греции в Египет. Додеканесские острова, в том числе остров Родос, еще с 1912 года были владениями Италии. Таким образом, державы «оси» закрепились в восточном Средиземноморье и получили здесь удобные военные плацдармы. Казалось, еще чуть-чуть и волна германо-итальянской агрессии накроет страны Юго-Западной Азии и покатится в сторону советского Закавказья. Первыми в регионе увидели немецких солдат Ирак и Сирия.
После Первой мировой войны Ирак, ранее входивший в состав Османской империи, был передан под мандат Великобритании. Однако в 1930 году был заключен британско-иракский договор, согласно которому Ирак признавался независимым государством. Англичане сохраняли за собой две военные базы (Басру вблизи Персидского залива и Хаббанию, в 40 км от Багдада), право на передвижение своих войск по стране, а также косвенный контроль за внешней политикой и обороной Ирака. У них также были коммерческие интересы на нефтепромыслах Мосула и Киркука, где в 1940 году было добыто 2,5 млн тонн нефти.
Успехи Гитлера в начале мировой войны подстегнули волну национализма, усилили антибританские и профашистские настроения в Ираке. 1 апреля 1941 года последовал военный переворот. Лидер националистов Рашид Али аль-Гайлани стал премьер-министром. Багдад открыто установил связи с Германией и попросил её о поддержке.
Немцы через Сирию по воздуху стали поставлять в Ирак оружие и боеприпасы. Туда же были направлены германские военные советники. В небе Сирии и Ирака появились немецкие и итальянские самолеты. Начались воздушные бои с англичанами. База в Хаббании подвергалась налетам германской авиации. В Ирак было отправлено диверсионно-террористическое формирование «Бранденбург-800», которое уничтожило две британские канонерские лодки и другие суда, разгромило попавший в засаду отряд англичан[xvi]. Все это происходило на фоне успехов Э. Роммеля в Северной Африке.
В начале мая силы националистов атаковали базу в Хаббании. Но после нескольких дней боев стало ясно, что иракцев ждёт разгром. Зря Рашид Али надеялся на прибытие немецких десантников (те были в этот момент задействованы на Крите). Германия не могла оказать Багдаду масштабную военную помощь, так как была сосредоточена на подготовке к войне с Советским Союзом.
В Басру прибывали все новые войска из Индии. Британская группировка, насчитывавшая 5800 чел., в том числе 1500 чел. из арабского легиона из Трансиордании, перешла в наступление, разгромила иракские правительственные войска и 1 июня вступила в Багдад. К власти пришли пробританские силы[xvii].
Подавив восстание в Ираке, англичане, что говорится, на одном дыхании решили вопрос с Сирией и Ливаном[xviii].
Этими французскими владениями управляла администрация во главе с генералом А. Ф. Денцем. Немцы и итальянцы чувствовали себя в этих странах вольготно, развернув там антибританскую деятельность. Вишистские власти всячески мешали французским и другим солдатам уходить в британскую Палестину, чтобы присоединиться к антинацистским силам. Сделать это смогла только одна крупная воинская часть — польская Карпатская бригада, сформированная из польских военнослужащих, сумевших после сентября 1939 года добраться до Ближнего Востока[xix].
С 14 мая британская авиация стала наносить удары по сирийским аэродромам, которые использовались немецкими и итальянскими самолетами. 8 июня началось наступление на суше. В нём участвовали английские, австралийские, индийские и французские («Свободной Франции» генерала Ш. де Голля) войска при поддержке местных формирований из арабов и добровольцев-евреев из Палестины. Этой группировке противостояли значительные силы: около 35 тыс. человек при превосходстве в авиации (100 самолетов против 60). По информации англичан, среди этих сил было примерно 11 батальонов местных спец. войск, состоявших их сирийцев, черкесов и русских белогвардейцев[xx].
Сопротивление вишистов, поначалу слабое, затем заметно усилилось. Союзным войскам пришлось немало постараться, чтобы сломить его. Наконец, после 3-дневных ожесточенных боев 21 июня был взят Дамаск. После этого немецкие самолеты подвергли столицу Сирии бомбардировке, погубившей сотни людей. Чувствуя, что его силы иссякают, генерал А. Ф. Денц запросил перемирия, которое и было подписано 14 июля. Победа стоила союзникам свыше 4600 человек убитыми и ранеными. Потери вишистов составили около 6500 человек.
Решительные действия англичан имели далеко идущие последствия. Они расширили свой контроль над регионом. Продвижению фашистов в сторону Персидского залива, Ирана, Кавказа и Индии был положен конец. Как скоро выяснилось, это было очень важно для обеспечения безопасности «персидского коридора» от угрозы противника с суши. Объективно успехи британцев были на руку Советскому Союзу, хотя их отношения с Москвой до 22 июня 1941 года, мягко говоря, оставляли желать много лучшего. У. Черчилль впоследствии с понятным раздражением писал, в частности, о том, что «3 мая Россия официально признала прогерманское правительство Рашида Али в Ираке»[xxi]. Поставив под свой контроль Ирак, Сирию и Ливан, англичане переключили своё внимание на Иран. Планы оккупации Ирана, прежде всего его нефтепромыслов, начали разрабатываться в Лондоне еще до того, как Гитлер напал на СССР. Но 22 июня резко изменило ситуацию в регионе.
24 июня командиру британского отряда в Персидском заливе был отдан приказ начать разработку плана вторжения в Иран, а в конце месяца Лондон обратился к Москве с предложением одновременно ввести свои войска в эту страну[xxii]. Как вспоминал У. Черчилль, когда мятеж в Ираке был подавлен, а Сирия оккупирована, «мы были рады возможности объединиться с русскими и предложили им провести совместную кампанию»[xxiii]. 11 июля британский кабинет поручил начальникам штабов рассмотреть вопрос о желательности действий в Иране совместно с русскими, если Тегеран откажется выслать германскую колонию.
Москва и Лондон очень быстро нашли общий язык в отношении Ирана. Их объединяло общее понимание того, что они хотели добиться от Тегерана. Так, У. Черчилль писал И. В. Сталину: «По поводу Персии. Наши интересы там заключаются лишь в следующем: во-первых, создание барьера против германского проникновения на Восток; и, во-вторых, устройство сквозного пути для поставок к Каспийскому бассейну»[xxiv].
Началось активное обсуждение иранского вопроса по дипломатическим каналам. В 12:00 22 июня 1941 года советский посол в Великобритании И. М. Майский был приглашён на встречу с министром иностранных дел А. Иденом, который подчеркнул, как сообщал посол, что «британское правительство готово оказать нам содействие во всем, в чём оно может». В это же самое время в Москве первый заместитель наркома иностранных дел А. Я. Вышинский принял временного поверенного в делах Великобритании в СССР Г. Баггалея по просьбе последнего (посол С. Криппс в это время находился в Лондоне). Британский дипломат заявил о готовности своего правительства оказать помощь в снабжении СССР через Владивосток или Персидский залив[xxv]. Таким образом, вопрос о «персидском коридоре» для поставок в СССР был поставлен в первый же день Великой Отечественной войны.
28 июня на встрече В. М. Молотова с С. Криппсом (как и А. Идена с И. М. Майским) говорилось о желательности «общей политической линии» обоих правительств в отношении Ирана и других стран Ближнего и Среднего Востока и о необходимости предотвратить проникновение Германии в этот регион. Английская сторона вновь подчеркнула свою готовность к экономической поддержке СССР, которая была обусловлена лишь транспортными затруднениями. На следующий день В. М. Молотов, говоря с американским послом Л. Штейнгардтом о путях оказания Соединенными Штатами помощи Советскому Союзу, указал, что есть путь через Иран, который работает круглый год[xxvi].
Хотя с Ираном пока не было никаких договоренностей относительно использования его транспортной инфраструктуры, но русские и англичане говорили о «персидском коридоре» как об уже решённом вопросе. 28 июня народный комиссар внешней торговли СССР А. И. Микоян с конкретными цифрами обсуждал с британским послом С. Криппсом и его сотрудниками пропускную способность Трансиранской железной дороги, иранских шоссейных дорог и портов, а также возможности наращивания поставок[xxvii].
И. В. Сталин неоднократно говорил о ситуации в Иране с С. Криппсом. Так, указав 8 июля на необходимость демарша в Тегеране с требованием удалить германскую «пятую колонну» из Ирана, они уже 10 июля сошлись во мнении, что дипломатические меры может быть придется поддержать военными. О том же говорил У. Черчилль с советским послом И. М. Майским[xxviii].
Москва демонстрировала Тегерану готовность принять немедленные меры к доставке по своей территории транзитных грузов в Иран, в том числе вооружения. В ответ шахское правительство заявляло, что Иран в принципе не возражает против транзита советских грузов, но в силу своего нейтралитета категорически против перевозок оружия[xxix]. Такая позиция, безусловно, обесценивала значение «персидского коридора» для СССР.
В нотах от 26 июня, 19 июля и 16 августа советское правительство обращало внимание Тегерана на подрывную и шпионско-диверсионную деятельность германских агентов в Иране, требовало пресечь их активность и выслать немцев из страны. В двух последних случаях аналогичные требования выдвигала Великобритания.
В ходе переговоров между собой Москва и Лондон демонстрировали готовность к согласованным действиям в отношении Ирана. Так, во время беседы 20 июля С. Криппс вручил В. М. Молотову памятную записку посольства Великобритании относительно присутствия немецких агентов в Иране и Афганистане. В ней, в частности, сообщалось, что британскому посланнику в Тегеране Р. Булларду дано «указание поддержать всякое представление, которое его советский коллега был бы уполномочен сделать иранскому правительству по этому вопросу»[xxx].
Сложнее обстояло дело с США. Понятно, что Соединенные Штаты, оставаясь ещё нейтральной державой, занимали более сдержанную позицию. Они предпочли бы, чтобы удалось избежать прямой военной акции в отношении Ирана, сохранив его суверенитет и целостность. Это стало тем более важно для американцев после подписания 14 августа президентом США Ф. Рузвельтом и премьер-министром Великобритании У. Черчиллем Атлантической хартии.
По воспоминаниям советского дипломата В. М. Бережкова, американский посол Л. Штейнгардт во время посещения Наркоминдела вновь и вновь пускался в рассуждения о том, что по отношению к Ирану не следует принимать резких мер, что лучше постараться уговорить старого Реза-шаха пресечь деятельность гитлеровский агентуры и установить более тесные отношения с союзниками. Тогда, дескать, можно будет решить и все другие вопросы, в частности проблему налаживания транспортного пути от Персидского залива до советской границы[xxxi].
Вместе с тем США не могли не считаться с интересами Великобритании и СССР и потому не пошли навстречу Реза-шаху, который обратился к ним с просьбой о поддержке и посредничестве. В итоге Соединённые Штаты молчаливо одобрили действия русских и англичан в Иране[xxxii].
Иранская сторона, несмотря на давление со стороны Москвы и Лондона, всячески уклонялась от выполнения их требований, ссылаясь на то, что они носят ультимативный характер, ущемляют суверенитет Ирана и нарушают проводимую им политику строгого нейтралитета. «Стремление не обидеть немцев проходит красной нитью в политике Ирана», — докладывал 10 августа в Москву советский посол в Тегеране А. А. Смирнов[xxxiii]. Реза-шах и его окружение, видимо, исходили из того, что Германия вот-вот разгромит Советский Союз, и тогда им надо будет как-то объясняться с Гитлером.
Нежелание иранских властей пропускать через свою территорию оружие для СССР (а без этого «коридор» терял свое значение) и нейтрализовать германскую «пятую колонну», стало последним толчком к военной акции со стороны союзников. Словесные заверения иранцев уже не удовлетворяли союзников. Не помогло даже то, что вечером 23 августа Реза-шах заявил английскому посланнику Р. Булларду, что принимает требование о высылке немцев из страны. В условиях смертельной схватки с державами «оси» вопрос о суверенитете Ирана и его нейтралитете в войне отходили на второй план.
Британцам не впервой было действовать без оглядки на право, мораль и желание другой стороны, если дело касалось их жизненных интересов. Достаточно вспомнить нападения англичан на французский флот после капитуляции Франции. Или силовое вытеснение вишистов из французских колоний. Всё это сопровождалось гибелью тысяч французских солдат — вчерашних союзников Британии.
Объясняя действия в отношении Ирана, У. Черчилль лишь подчеркнул, что Англия и Россия боролись за свою жизнь. «Inter arma silent leges» («когда говорит оружие, законы молчат»), написал он в своих мемуарах[xxxiv]. Правда, некоторые английские историки оценивают действия своего правительства в отношении Ирана гораздо более жёстко. «Персия стала важным путём снабжения для оказания помощи Сталину, — пишет М. Хастингс, — но британцы отдавали себе отчёт, что их силовые действия там напоминают то, как делал свои дела Гитлер»[xxxv]. С позиции международного права, как справедливо отмечает А. Б. Оришев, только действия Великобритании в августе 1941 года, но никак не СССР, можно характеризовать как «оккупацию»[xxxvi].
Советскому руководству, особенно в начальный период Второй мировой войны, тоже приходилось идти напролом, не особенно думая о международном праве. Однако в случае с Ираном у СССР было твердое юридическое обоснование для ввода своих войск. В подписанном в феврале 1921 года советско-персидском договоре говорилось, что в случае «если со стороны третьих стран будут иметь место попытки путем вооруженного вмешательства осуществлять на территории Персии захватную политику или превращать территорию Персии в базу для военных выступлений против России», если при этом будет угрожать опасность границам России или союзных ей держав и если правительство Персии после предупреждения само не окажется в силе отвратить эту опасность, то «Российское Советское Правительство будет иметь право ввести свои войска на территорию Персии, чтобы, в интересах самообороны, принять необходимые (военные) меры»[xxxvii].
Утром 25 августа 1941 года от имени правительств СССР и Великобритании в Тегеране были вручены ноты с объяснением причин, побудивших их ввести свои войска на территорию Ирана. В советской ноте говорилось, что Советское правительство, «руководствуясь чувством дружбы к иранскому народу и уважением к суверенитету Ирана, всегда и неизменно осуществляло политику укрепления дружеских отношений между СССР и Ираном и всемерного содействия процветанию иранского государства». В подтверждение напоминалось о таких шагах Советской России, как аннулирование всех платежей Ирана по царским обязательствам, прекращение вмешательства в доходы Ирана, отмена консульской юрисдикции, безвозмездная передача в собственность иранского народа предприятий, сооруженных Россией (шоссейных дорог, портовых сооружений в городе Энзели, железной дороги Джульфа-Тебриз, почтовых учреждений, телефонных и телеграфных линий, Учетно-ссудного банка). Однако в последние годы, и особенно после нападения гитлеровской Германии на СССР ситуация изменилась. «Деятельность фашистско-германских диверсионных групп на территории Ирана приобрела угрожающий характер», говорилось в советской ноте. Германские агенты «всячески стараются вызвать в Иране беспорядки и смуту, нарушить мирную жизнь иранского народа, восстановить Иран против СССР, вовлечь его в войну с СССР». Поэтому Советское правительство «не только вправе, но и обязано принять меры в целях самозащиты в точном соответствии со статьей 6 Договора 1921 года»[xxxviii].
С советской стороны для иранской экспедиции были выделены 44-я армия (командующий — генерал-майор А. А. Хадеев, штаб в Ленкорани) и 47-я армия (командующий — генерал-майор В. В. Новиков, штаб в Нахичевани) общей численностью 135 тыс.чел. Еще две армии (45-я и 46-я), имевшие 110 тыс. чел., прикрывали границу с Турцией. Все они входили в состав Закавказского фронта, образованного 23 августа на базе Закавказского военного округа (командующий — генерал-лейтенант Д. Т. Козлов). В походе участвовала также 53-я отдельная армия из Среднеазиатского военного округа (командующий — генерал-майор С. Г. Трофименко, штаб в Ашхабаде). План операции советских войск был разработан начальником штаба Закавказского фронта генерал-майором И. Ф. Толбухиным. Общий замысел состоял в том, чтобы внезапным ударом лишить иранские войска способности сражаться, а в случае сопротивления — уничтожить их, не допуская отхода на юг.
25 августа советские войска из Закавказья вступили на территорию Ирана. Главный удар наносила 47-я армия, наступавшая на Тебриз. Её силы включали две горнострелковые дивизии, одну стрелковую и две танковые дивизии. 44-я армия, состоявшая из двух горнострелковых и одной кавалерийской дивизий и одного танкового полка, двигалась по прикаспийским территориям. 27 августа со стороны Туркмении в наступление перешла 53-я армия (стрелковый и кавалерийский корпуса и горнострелковая дивизия).
Первыми на рассвете 25 августа границу перешли небольшие маневренные группы, имевшие задачу атаковать пограничные заставы иранцев, перерезать линии связи, блокировать дороги. Для захвата мостов, тоннелей и других объектов были выброшены воздушные десанты. В иранские порты на Каспии вошли советские военные корабли, были высажены морские десанты.
Активно действовала советская авиация (522 самолёта), которая сначала наносила бомбовые удары, а потом сосредоточилась на ведении разведки. Так, гарнизон Решта, центра прикаспийской провинции Гилян, был частично уничтожен авиацией, а частично просто разбежался. Всего военно-воздушные силы сделали около 17 тыс. самолётовылетов, сбросив 7 тыс. бомб на военные объекты.
25 августа, со стороны Ирака, от Басры и Багдада, двинулись в наступление англо-индийские войска. Они заняли юго-западные территории и порты в Персидском заливе. Был уничтожен иранский военный флот. 29 августа в районе Сенендеджа союзники вошли в непосредственный контакт друг с другом. По взаимной договоренности зона радиусом 100 км от Тегерана осталась незанятой.
27 августа правительство Али Мансура подало в отставку. Новое правительство во главе с известным учёным и литератором М. Форуги отдало приказ своей армии не оказывать сопротивление. Его, впрочем, практически и не было, не считая мелких локальных стычек. 29 августа иранские войска сложили оружие перед англичанами, а на следующий день — перед Красной Армией.
Иранские вооруженные силы (по некоторым данным, около 200 тыс. чел., 300 самолётов, 150 танков, 400 орудий) оказались совершенно неспособны к сопротивлению в силу крайне слабой боевой подготовки, технической оснащенности и морального состояния. Иранцы обычно или сразу сдавались в плен, или расходились по домам по команде своих офицеров, или просто разбегались, бросая оружие и снаряжение. Так, гарнизон города Пехлеви численностью 520 солдат и офицеров после короткой перестрелки был пленён советским разведотрядом из 45 чел. Быстрое и решительное совместное наступление советских и британских войск стало полной неожиданностью для иранцев. К тому же союзники продвигались во многих случаях по территориям, населенным национальными меньшинствами (азербайджанцами, курдами, армянами), которые были не слишком лояльны к шахскому режиму.
Пожалуй, главные сложности для союзников создавали не сопротивление иранских войск, а горно-пустынная местность и тяжелый климат. Показательно, что для обеспечения продвижения советских войск были привлечены 11 инженерно-саперных батальонов и 31 отдельная инженерно-саперная и понтонно-мостовая роты.
Иранский поход выявил немало слабых мест в боевой подготовке и технической оснащенности Красной Армии. Явно не хватало боевого опыта, умения эксплуатировать и применять боевую технику. Были проблемы с разведкой, связью, снабжением. Не всегда удачно взаимодействовали различные рода войск. Но в целом именно в Иране удалось бить «врага» малой кровью на его территории.
Потери союзников были минимальными: с советской стороны — около 50 убитых и свыше 100 раненых, с британской — 22 убитых и 45 раненых. У иранцев потери были на порядок больше[xxxix].
Местное население встречало советские войска по-разному. Простые люди нередко проявляли радость и энтузиазм, вплоть до призывов устанавливать советскую власть и делить имущество богатых и вступать в Красную Армию. Однако другая часть населения, особенно зажиточные слои, проявляла настороженность, а то и враждебность. Во многих местах торговцы закрывали свои лавки, что приводило к росту цен и ставило под угрозу снабжение населения. Распространялись различные антисоветские слухи и домыслы.
Советская сторона предпринимала усилия по налаживанию отношений с местным населением. Впрочем, были попытки оказать идеологическое воздействие и на советские войска.
В послании, полученном в Москве 30 августа, У. Черчилль писал И. В. Сталину: «Известие о том, что персы решили прекратить сопротивление, весьма приятно». И. В. Сталин ответил: «Дело с Ираном, действительно, вышло неплохо. Совместные действия британских и советских войск предрешили дело. Так будет и впредь, поскольку наши войска будут выступать совместно». И добавил: «Но Иран только эпизод. Судьба войны будет решаться, конечно, не в Иране»[xl]. Прозрачный намек на то, что главный враг — Германия, и пора союзным войскам «совместно» сразиться с ней.
8 сентября СССР, Великобритания и Иран заключили соглашение, предусматривавшее размещение советских и британских войск в Иране. Иранские власти, однако, тянули с выполнением требований союзников по высылке немцев и их агентуры. Более того, полуофициозная газета «Эттеляат» поместила статью, направленную против СССР и Англии, а затем эту статью передавали по радио. Эта публикация, по мнению советской стороны, «явилась открытой про немецкой демонстрацией». Позднее иранские руководители признали, что статья была написана по указанию Реза-шаха[xli]. В этих условиях было решено двинуть союзные войска к Тегерану. 16 сентября Реза-шах отрёкся от престола и затем покинул страну, передав власть своему сыну Мохаммеду Реза Пехлеви.
17 сентября советские и британские войска вошли в Тегеран. Официальные представители Германии, а также Италии, Румынии и Венгрии были высланы из страны. Отношения Ирана со странами «оси» были разорваны. В феврале 1942 года аналогичный шаг был предпринят в отношении вишисткой Франции, а в апреле — Японии.
29 января 1942 года был подписан договор о союзе между СССР, Великобританией и Ираном. Союзники обязались уважать территориальную целостность, суверенитет и политическую независимость Ирана и защищать его от всякой агрессии со стороны Германии, а также оказывать ему экономическую помощь. СССР и Великобритания получили право содержать на иранской территории военные силы в необходимом количестве, а также неограниченное право использования любых средств коммуникаций по всему Ирану. Подчёркивалось, что ввод советских и британских войск «не представляет собой военной оккупации» и будет возможно меньше затруднять нормальную работу администрации и обычную жизнь страны. В свою очередь, Иран брал на себя обязательство сотрудничать с союзными государствами, чтобы они могли выполнить вышеуказанные обязательства. Не позднее 6 месяцев по окончании военных действий союзных государств с Германией, их войска должны были покинуть территорию Ирана[xlii].
Ввод советских и британских войск в Иран стал первой совместной военно-политической акцией новоявленных союзников — СССР и Великобритании. Наряду с начавшимися в это же время военными поставками в Советский Союз (первый английский конвой прибыл в Архангельск 31 августа) это стало зримым свидетельством складывания антигитлеровской коалиции, перехода союзников к реальным, конкретным делам.
Были достигнуты важнейшие цели союзников. Появилась возможность обустроить транспортный «персидский коридор», по которому вскоре пошли союзнические поставки в СССР. Исчезла угроза превращения Ирана во враждебное союзникам государство — плацдарм для германской агрессии на Среднем Востоке. Германская агентура в основном была ликвидирована или загнана в глубокое подполье. Это позволило впоследствии провести в Тегеране первую встречу «большой тройки».
Укрепились стратегические позиции стран формирующейся антигитлеровской коалиции. Англичане получили возможность действовать на всем пространстве от Ближнего Востока до Индии. Советский Союз был спокоен за свои южные рубежи.
Была обеспечена безопасность крупнейших нефтяных месторождений на Кавказе и в Иране, столь важных для обеих держав. Заводы Англо-иранской нефтяной компании обеспечивали топливом британские войска к востоку от Суэца, флот на Средиземном море и в Индийском океане и являлись единственными производителями авиационного топлива в регионе[xliii]. В 1940 году Баку давал свыше 71%, а Грозный и Майкоп — свыше 24% общей добычи нефти в СССР[xliv].
Несмотря на неоднозначную первоначальную реакцию, для самого Ирана акция союзников дала позитивные результаты. Не став ареной боевых действий со странами «оси», он вошёл в антигитлеровскую коалицию (9 сентября 1943 года объявил войну Германии), обеспечив в итоге свою безопасность, территориальную целостность и суверенитет и получив статус страны-победителя во Второй мировой войне. К тому же союзники оказали Ирану значительную материальную поддержку и коренным образом реконструировали его транспортную инфраструктуру для того, чтобы она могла обеспечивать поставки по ленд-лизу[xlv].
Пример Ирана оказал сдерживающее воздействие на Турцию и Афганистан. В октябре 1941 года из Кабула были высланы представители Германии и ее союзников.
Наконец, в тяжелейших условиях лета–осени 1941 года, когда Красная Армия с огромными потерями отходила вглубь страны, быстрый и практически бескровный успех иранского похода давал хоть какие-то позитивные эмоции для советских людей.
Конечно, успех первой совместной советско-британской операции не означал, что между союзниками не было никаких противоречий и трений, пусть даже скрытых за внешней дипломатической вежливостью. Видимо, сказывалась инерция многолетней борьбы за влияние в Иране. Да и восприятие британскими верхами СССР как союзника складывалось небыстро и непросто. Неслучайно У. Черчилль в мемуарах отмечал, что «более года после вступления России в войну она нам казалась обузой, а не подспорьем»[xlvi].
Это столкновение интересов проявилось довольно скоро. Так, вводя свои войска в Иран, Москва хотела иметь плацдарм, который гарантировал бы сохранение и укрепление собственного влияния в соседней стране, не оставляя её под единоличным контролем союзника.
Судя по всему, англичане совсем не прочь были бы такой контроль установить. Произошло это в самый отчаянный момент только что начавшейся битвы за Москву. В первую декаду октября 1941 года под Вязьмой и Брянском было окружено и уничтожено несколько советских армий. В центральной части фронта образовалась брешь в 500 км. Казалось, что уже никто не остановит рванувшийся к советской столице вермахт. 12 октября У. Черчилль отправил И. В. Сталину послание, в котором он осторожно предлагал следующее: «Если Вам желательно отозвать имеющиеся там [в Персии] пять или шесть русских дивизий с тем, чтобы использовать их на боевом фронте, мы примем на себя полную ответственность по поддержанию порядка и содержанию в исправности и улучшению путей сообщения». Предупреждая возможные подозрения И. В. Сталина, У. Черчилль тут же торжественно заверил его: «Я обещаю именем Британии, что мы не будем стремиться к каким-либо выгодам для себя за счёт каких-либо справедливых русских интересов как во время войны, так и по её окончании»[xlvii].
Англичанам, видимо, так хотелось поскорее услышать желанный ответ на это предложение, что британский посол С. Криппс, будучи принят 13 октября наркомом иностранных дел СССР В. М. Молотовым, сразу же поинтересовался мнением советского правительства. По какому вопросу, удивился советский нарком, только-только получивший из рук британского дипломата вышеупомянутое послание У. Черчилля для передачи И. В. Сталину. С. Криппс пояснил. И неожиданно добавил еще одну фразу, то ли от себя, то ли выдав затаённое желание британского руководства вроде бы и союзнику подсобить, и самим в пекло не лезть. Он заявил, что «отвод советских войск из Ирана следует рассматривать как мероприятие, равносильное посылке английских войск» на помощь советскому фронту.
Ловко! Получается, что простое пребывание английских дивизий (вместо советских) в далёком от реальной войны Иране, где они страдали разве что от жары и пыли, это «мероприятие, равносильное» кровопролитным сражениям Красной Армии с беспощадным врагом.
Неизвестно, поперхнулся ли В. М. Молотов от такого сравнения, но сухая протокольная запись беседы свидетельствует только о том, что нарком сразу же чётко расставил всё по своим местам: отвод советских войск из Ирана и оказание английскими войсками помощи СССР против немцев — «это два различных вопроса». При этом он напомнил, что британское правительство так и не дало ответа на советское предложение о посылке английских войск на наш фронт[xlviii].
После нападения фашистской Германии на Советский Союз И. В. Сталин в своих посланиях У. Черчиллю не раз ставил вопрос об открытии второго фронта «как основного средства по улучшению нашего общего дела». Если создание второго фронта на Западе, по мнению английского правительства, в данный момент невозможно, то, «может быть, можно было бы найти другое средство активной военной помощи Советскому Союзу против общего врага». «Мне кажется, — писал Сталин 13 сентября 1941 года, — что Англия могла бы без риска высадить 25–30 дивизий в Архангельск или перевести их через Иран в южные районы СССР для военного сотрудничества с советскими войсками на территории СССР…»[xlix].
Вот на эти конкретные предложения Лондон так и не ответил, ограничившись общим заверением о готовности изучить любую «форму действенной поддержки» Советского Союза или утверждая, что после победы над итало-германскими войсками в Ливии «мы будем иметь значительные силы, как воздушные, так и сухопутные, для совместных действий на южном фланге русского фронта»[l].
Но англичан никак не оставляла идея заменить советские войска в Иране своими и даже продвинуть их еще дальше на Кавказ. Получив ясный ответ В. М. Молотова на встрече 13 октября, С. Криппс, тем не менее, на следующей встрече 22 октября поставил вопрос теперь уже о вводе британских войск на Кавказ. Он отметил, что «посылка войск через Иран ввиду незначительного грузопотока, проходящего через эту страну, представляется вполне возможной». На это В. М. Молотов возразил, что «Кавказ не нуждается в защите, так как там нет фронта». Нарком добавил, что «если английское правительство хочет помочь СССР, то не надо дожидаться, пока немцы будут на Кавказе, а надо сделать это раньше»[li].
Позднее, в послании, полученном в Москве 22 ноября, У. Черчилль сообщал И. В. Сталину о готовности командировать своего министра иностранных дел А. Идена в СССР для обсуждения любого вопроса, «включая посылку войск не только на Кавказ, но и на линию фронта Ваших армий на Юге. Ни наши судовые ресурсы, ни наши коммуникации не позволяют ввести в действие значительные силы, и даже при этом Вам придётся выбирать между войсками и поставками через Персию»[lii]. При такой постановке вопроса выбрать пришлось, конечно, поставки. Тогда еще небольшой ручеек этих поставок вскоре должен был превратиться в настоящий поток, что для Советского союза было важнее, чем символическое присутствие английских войск на Кавказе или даже на фронте.
В итоге англичанам так и не удалось провести своё «мероприятие, равносильное» посылке британских войск на советско-германский фронт. Хотя советское командование осенью 1941 года из-за катастрофического положения на фронте отозвало часть своих сил из Ирана. Сначала на Северный Кавказ убыла 44-я армия, за ней последовали 47-я армия и несколько дивизий 53-й армии. Но северная часть Ирана по-прежнему оставалась под советским контролем. «Персидский коридор» функционировал только для ленд-лизовских поставок, но не для переброски британских войск.
В современной российской историографии высказывается сомнение в оправданности официальной советской версии о наличии реальной военной угрозы для СССР, исходившей от Ирана или с его территории. Главным политическим расчетом советского руководства называется «продолжение предвоенной сталинской политики расширения советских границ, „восстановления“ утраченных имперских рубежей»[liii].
С этим утверждением трудно согласиться, по крайней мере, пока не будут найдены соответствующие архивные материалы.
Во-первых, едва ли в августе 1941 года мотив расширения границ мог быть «главным» для советского руководства. Об «имперских рубежах» ли оно думало, когда немецко-фашистские войска были уже под Ленинградом, взяли Смоленск, дошли на Украине до Днепра и рвались еще дальше вглубь страны? Речь тогда шла прежде всего о выживании советского государства и советского народа. Все действия Москвы в тот момент были обусловлены именно этим обстоятельством.
Конечно, у И. В. Сталина, как уже отмечалось, вполне могли быть мысли о том, что, войдя в северный Иран, можно было бы там и остаться, закрепив эти территории в советской сфере влияния. Речь могла идти прежде всего о южном Азербайджане с центром в Тебризе[liv]. Не случайно, как уже говорилось, И. В. Сталин не откликнулся на предложение У. Черчилля заменить в Иране советские войска английскими. Но, подчеркнём, «главными» эти соображения никак не могли быть. Едва ли И. В. Сталин ради подобных гипотетических планов выделил бы на иранскую операцию три общевойсковые армии, а если считать оставшиеся в Закавказье войска, то пять армий при столь отчаянном положении на советско-германском фронте.
Во-вторых, сторонники вышеуказанной точки зрения не обращают внимания на другой (помимо германской «пятой колонны»), даже более важный в долгосрочной перспективе мотив действий союзников — необходимость обеспечить военный транзит в СССР через иранскую территорию. В этом была самая что ни на есть живейшая потребность, в тот момент гораздо более значимая, чем предполагаемое закрепление южного Азербайджана под советским контролем.
В-третьих, если прогерманские силы до 25 августа не смогли совершить государственный переворот, то не было никакой гарантии, что они не смогут этого сделать в будущем. Даже если сведения о численности немцев и их агентов в Иране, приводившиеся союзниками, были преувеличены, несомненно, что сторонников Германии в стране было вполне достаточно для такой попытки. Причем их число должно было расти по мере военных успехов Германии и приближении фронта к Ирану. В случае успеха переворота угроза с юга для СССР стала бы более чем реальной. Гитлер требовал от Реза-шаха вступить в войну на стороне Германии и ставил вопрос о передаче люфтваффе иранских авиабаз, к строительству которых немецкие специалисты имели прямое отношение[lv]. Если немецкая авиация весной–летом 1941 года действовала в Сирии и Ираке, она вполне могла оказаться и в Иране при прогерманском режиме.
В-четвертых, германские вооруженные силы могли появиться около Ирана или даже на его территории. Собственно, они уже только что были совсем рядом, в Ираке и Сирии, и вполне могли вернуться при изменении военно-стратегической ситуации на Североафриканском и Средиземноморском театрах военных действий. В 1941–1942 годах не раз возникала угроза прорыва германо-итальянских войск к Суэцкому каналу и дальше в Юго-Западную Азию. Кто мог гарантировать, что это не произойдет?
В-пятых, своевременность и обоснованность ввода советских и британских войск в Иран с точки зрения борьбы с фашизмом подтвердили и события 1942 года на советско-германском фронте. Через год после советско-британской акции в отношении Ирана немецко-фашистские армии вышли к Главному Кавказскому хребту. Возникла угроза прорыва гитлеровцев в Закавказье, а оттуда до Ирана рукой подать. В этой обстановке контроль за ситуацией в этой стране и бесперебойные поставки в Советский Союз из США и Великобритании по южному направлению были чрезвычайно важны.
Невольно даже У. Черчилль по сути подтвердил, что дело было отнюдь не в советских имперских амбициях. В своих мемуарах он тоже почему-то говорил о необходимости «главным образом» добиваться открытия коммуникации от Персидского залива до Каспийского моря и изгнания всех немцев из Ирана. И только «на втором плане, — по мнению британского премьера, — стояли глубокие и щекотливые вопросы о нефти, коммунизме и послевоенном будущем Персии…»[lvi]. Летом–осенью 1942 года, как и в первые месяцы Великой Отечественной войны, судьба СССР, а по большому счету — и антигитлеровской коалиции в целом, висела на волоске. Собравшись с силами после поражения под Москвой, вермахт в мае нанёс крупные поражения Красной Армии под Харьковом и в Крыму. В июне немцы развернули новое мощное наступление на южном фланге советско-германского фронта, имея главной целью захват Сталинграда и Кавказа.
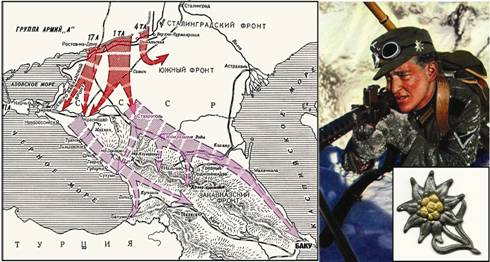
План немецко-фашистского командования по захвату Кавказа «Эдельвейс»
Согласно директиве ОКВ № 45 от 23 июля 1942 года под условным наименованием «Эдельвейс» замысел операции по захвату Кавказа состоял в том, чтобы окружить и уничтожить советские войска южнее и юго-восточнее Ростова и овладеть Северным Кавказом. Затем предполагалось по берегам Чёрного и Каспийского морей обойти Главный Кавказский хребет, одновременно прорываясь через горы по перевалам с севера.

Немецкие солдаты на одной из улиц захваченного Краснодара. Август - сентябрь 1942 года
25 июля 1942 года началась битва за Кавказ, оборонительная фаза которой продолжалась до конца декабря[lvii]. В этот день немецко-фашистские войска перешли в наступление с рубежа реки Дон в южном направлении. Хотя окружить и уничтожить советские силы между Доном и Кубанью не удалось, но к 17 августа немцы дошли до северо-западных предгорий Большого Кавказского хребта, захватив Ворошиловск (совр. Ставрополь), Армавир, Краснодар, Майкоп.

21 августа немецкие альпийские стрелки подняли красно-чёрный флаг со свастикой над Эльбрусом
21 августа немецкие альпийские стрелки подняли красно-чёрный флаг со свастикой над Эльбрусом. Было захвачено несколько перевалов, и гитлеровцы уже готовы были ринуться вниз, на юг, в Закавказье. Но сил им уже не хватало. Часть своих войск немецкое командование вынуждено было перенацелить с Кавказа на Волгу, где разыгралось грандиозное Сталинградское сражение.

Немецкое противотанковое орудие на фоне дыма от горящих нефтяных скважин Майкопа, подожженных защитниками в последнюю неделю августа 1942 года
Впрочем, Гитлер в это время еще был полон оптимистических планов. 18 сентября он заявил относительно обстановки на Кавказе: «Решающим является прорыв на Туапсе, а затем блокирование Военно-Грузинской дороги и прорыв к Каспийскому морю»[lviii]. Но ничего этого добиться гитлеровцам не удалось. В частности, потерпели неудачу попытки немецко-фашистских войск продвинуться через Орджоникидзе (совр. Владикавказ) и Грозный в направлении к Махачкале и Баку и выйти Каспийскому морю. В ходе Нальчикской оборонительной операции (25 октября — 12 ноября 1942 года) их ударные части были остановлены.

Октябрь 1942: немецкие солдаты между Майкопом и Краснодаром, где отступающие русские заранее подожгли нефтяные месторождения
Продвижение вермахта к Каспийскому морю грозило перерезать очень важную транспортную артерию, которая, помимо морского пути, соединяла Баку с остальной страной. После захвата немцами Ростова традиционный железнодорожный маршрут на Баку был оборван. Тогда советская сторона в январе-августе 1942 года построила вдоль каспийского побережья железнодорожную ветку Кизляр — Астрахань. Благодаря ей поток ленд-лизовских грузов из Ирана и нефти из Азербайджана устремился к Астрахани и далее к Сталинграду и в другие районы страны.
Немцы неоднократно доходили до этой дороги. Так, один из разведывательных дозоров боевой группы германских войск, наступавшей по северному берегу реки Терек, сумел выйти к развилке железных дорог в 25 км северо-восточнее Грозного. Хотя советских войск в этом районе почти не было, но всё же гитлеровцам прервать железнодорожное сообщение между Кизляром и Астраханью не удалось[lix].
Сходная ситуация была и в Калмыкии. Там сплошной линии фронта практически не было. В пустынно-степной местности у немцев действовали лишь отдельные мобильные группы. Именно они в какой-то момент ближе всего подошли низовью Волги и к берегу моря. Как отмечал известный английский военный историк Б. Лиддел Гарт, «хотя немецкие подвижные отряды прорывались к побережью Каспийского моря, оно так и осталось для них «миражом в пустыне»[lx]. В Калмыкии немцы также добирались до железной дороги Кизляр — Астрахань, но опять-таки перерезать её не смогли. Во многом это объяснялось тем, что дорога строилась как можно быстрее, без насыпного полотна, рельсы укладывали прямо на землю. Поэтому русские могли положить новые секции взамен уничтоженных, и движение поездов возобновлялось[lxi].
Когда вермахт вышел на подступы к Каспию, гитлеровское командование приступило к планированию операций на самом большом в мире озере. Главный штаб ВМС Германии получил указание готовить лёгкие силы для действий на коммуникациях Каспия[lxii]. Державы «оси» могли воспользоваться для этого своим военно-морским потенциалом на Черном море.
Согласно международной конвенции, подписанной в 1936 году в Монтрё, во время войны Турция не должна была пропускать военные корабли воюющих держав через Черноморские проливы. Хотя иногда возникали подозрения, что это положение нарушается, но всё же после 22 июня 1941 года в акватории этого моря крупные боевые корабли Германии и Италии так и не появились. Немцы могли только провести по Дунаю или перебросить по железной дороге или по шоссе на трейлере небольшие корабли, типа подводных лодок, сторожевиков, охотников, тральщиков, торпедных катеров, самоходных барж. При необходимости их перевозили в разобранном виде и собирали, например, в Констанце, в фашистской Румынии (сам румынский флот никакой боевой ценности не представлял).
14 января 1942 года было подписано соглашение, по которому «легкие итальянские силы» привлекались к содействию германским ВМС на Черном море (и на Ладоге). В мае–июне итальянские сверхмалые подводные лодки, торпедные катера, сверхмалые торпедные катера, взрывающиеся катера прибыли в Крым. Базируясь в Ялте, Форосе, а затем в Севастополе, Феодосии, все они, кроме взрывающихся катеров, принимали участие в боевых операциях против советского ВМФ[lxiii].
Летом военно-морские силы стран «оси» стали готовить к действиям в новом районе, на Каспии. На румынских верфях было построено несколько небольших деревянных минных заградителей, которые можно было по частям перевозить на автомобилях. В Махачкале предполагалось собрать 12–20 паромов «Зибель» и 20–25 быстроходных десантных барж[lxiv]. 23 сентября автоколонна с итальянскими сверхмалыми торпедными катерами и взрывающимися катерами была отправлена из Ялты в Мариуполь на Азовском море.
Об этих приготовлениях стало известно англичанам, которые уже давно расшифровывали секретные немецкие сообщения. У. Черчилль тут же предупредил И. В. Сталина. В его послании от 30 сентября говорилось: «Немцы уже назначили адмирала, которому будут поручены военно-морские операции на Каспийском море. Они избрали Махачкалу в качестве своей главной военно-морской базы. Около 20 судов, включая итальянские подводные лодки, итальянские торпедные катера и тральщики, должны быть доставлены по железной дороге из Мариуполя на Каспий, как только будет открыта линия. Ввиду замерзания Азовского моря подводные лодки будут погружены до окончания строительства железнодорожной линии». Впрочем, уже 9 октября британский премьер-министр сообщил, что, как показывали последние сведения, «осуществление германских планов отправки судов на Каспийское море по железной дороге приостановлено»[lxv].
Действительно, ехать-то было некуда. В октябре–ноябре наступательный порыв вермахта на Кавказе иссяк. Итальянские моряки на несколько месяцев застряли в Приазовье. По воспоминаниям, в Мариуполе они, помимо приведения в порядок матчасти, коротали время за чисткой кукурузных початков, набранных на окрестных полях, и ночной охотой на зайцев. В марте 1943 года несостоявшиеся «каспийцы» вернулись в Италию. В мае была расформирована действовавшая на Чёрном море итальянская флотилия торпедных катеров, личный состав отправлен на родину, а катера перешли к немцам, от них — к румынам (уцелевшие катера будут затоплены в августе 1944 года в Констанце). Итальянские сверхмалые подводные лодки в сентябре-октябре 1943 года были переданы румынам, которые так и не научились ими пользоваться. В августе 1944 года они были захвачены советскими войсками в Констанце[lxvi]. Так бесславно закончилась, по сути не начавшись, «каспийская эпопея» итальянского (и германского) флота.
Победа Красной Армии над вермахтом в величайшей Сталинградской битве ознаменовала начало периода коренного перелома во Второй мировой войне. Наряду с прочими, рухнули планы гитлеровцев разрубить коммуникации союзников на Каспии и вторгнуться с севера в Иран.
Не сумели немецко-фашистские войска прорваться в Иран и Закавказье и с юго-западного направления, из Северной Африки. Хотя в какой-то момент такая угроза стала вырисовываться. Удачная операция англичан «Крусейдер» (18 ноября 1941 года — 6 января 1942 года), сменилась новым наступлением Э. Роммеля, начатым 21 января 1942 года. Летом, когда немцы взяли Тобрук и вновь вторглись в Египет, повторно возникла угроза прорыва германо-итальянских войск к Суэцкому каналу. Победа британцев в битве у Эль-Аламейна (23 октября — 4 ноября 1942 года) вместе с высадкой англо-американских войск в Марокко и Алжире предопределили скорую ликвидацию северо-африканского театра военных действий. Войска стран «оси» были разбиты и 11 мая 1943 года капитулировали в Тунисе. Безопасность «персидского коридора» теперь была гарантирована с обоих потенциально опасных направлений: и с севера, и с юго-запада.

1941 год, британские танки "Матильда" в Тобруке, Ливия
Добившись военными и политическими мерами беспрепятственного транзита ленд-лизовских грузов через Иран, союзникам надо было обеспечить ёще и организационно-техническую сторону дела. Речь шла прежде всего о создании такой транспортной инфраструктуры и условий для её бесперебойного функционирования, которые обеспечили бы всё возрастающие масштабные поставки в Советский Союз через Персидский залив, Иран и Каспий.
Ответственность за реорганизацию транспортной инфраструктуры поначалу взяли на себя англичане. У. Черчилль в своих посланиях И. В. Сталину постоянно подчёркивал, что он придавал решению этой задачи первостепенное значение. В письме, полученном в Москве 30 августа, говорилось: «При всей важности защиты нефтяных источников целью нашего вступления в Персию было в ещё большей степени стремление установить ещё один сквозной путь к Вам, который не может быть перерезан. Имея это в виду, мы должны реконструировать железную дорогу от Персидского залива до Каспийского моря и обеспечить её бесперебойную работу, используя дополнительной железнодорожное оборудование, доставляемое из Индии».
Через неделю У. Черчилль сообщал: «Мы уже отдали приказы о снабжении персидской железной дороги подвижным составом с тем, чтобы поднять её нынешнюю пропускную способность с двух поездов в каждую сторону в сутки до её полной пропускной способности, а именно до двенадцати поездов в каждую сторону в сутки. Это будет достигнуто к весте 1942 года… Паровозы и вагоны из Англии будут посылаться вокруг мыса Доброй Надежды после переоборудования их на нефтяное топливо… Первые 48 паровозов и 400 вагонов вот-вот должны быть отправлены».
Ещё через пару недель британский премьер отмечал: «Я придаю большое значение вопросу об открытии сквозного пути от Персидского залива до Каспия не только железной дороге, но и по автомобильной магистрали, к постройке которой мы надеемся привлечь американцев с их энергией и организационными способностями»[lxvii].
На ту же тему У. Черчилль писал Ф. Рузвельту 1 сентября 1941 года: «Хорошие результаты, которые были так легко достигнуты в Персии, привели нас к контакту с русскими, и мы предлагаем проложить вторые пути или по меньшей мере значительно усовершенствовать железную дорогу от Персидского залива до Каспийского моря и таким образом открыть надежный путь, по которому долгосрочные материалы смогут достичь резервных позиций в районе Волги»[lxviii].
Англичане немало сделали для налаживания поставок. Но всё же их масштабы были явно недостаточны. Великобритании не хватало людских и материальных ресурсов, тем более, что их приходилось распределять по всему Ближнему Востоку. Порты Басры и Абадана, наиболее подготовленные к приему большого количества грузов, британцы использовали прежде всего для снабжения своих войск, а также для вывоза нефти.
Между тем летом 1942 года вопрос о ленд-лизе для СССР приобрел особое военное и политическое значение. Отношения между союзниками крайне осложнились из-за отказа англосаксов открыть второй фронт в Европе в этом году. Для Советского Союза, который с огромным трудом сдерживал рвавшийся к Сталинграду и на Кавказ вермахт, это было тяжёлым ударом.
Одновременно возник дополнительный фактор, раздражающий межсоюзнические отношения — фактическое прекращение поставок по ленд-лизу северным, арктическим маршрутом. Отступавшая Красная Армия несла громадные потери, и их надо было как-то восполнять. Советская промышленность работала с величайшим напряжением. Военное производство в начале войны падало и только с весны 1942 года стало расти. Самые развитые территории на западе страны были захвачены врагом, а эвакуированные предприятия только-только разворачивались на новых местах. В этот момент очень к месту была бы помощь западных союзников по ленд-лизу.
Через арктические моря пролегал самый короткий и быстрый путь доставки вооружений и других стратегических материалов в СССР. С начала войны союзники переправили по нему 964 тыс. тонн военных материалов — 61% всех грузов, ввезённые в Советский Союз из-за рубежа[lxix]. Гитлеровцы, уверенные в своей скорой победе, одно время не обращали на это внимание. Ситуация изменилась в начале 1942 года, когда после битвы под Москвой стало ясно, что война затягивается. Немцы перебазировали на север Норвегии свой самый мощный линкор «Тирпиц», другие тяжёлые корабли, подводные лодки, авиацию. Союзные конвои, особенно с наступлением полярного дня, стали подвергаться массированным атакам и нести потери. Если с августа 1941 года до конца марта 1942 года из 110 транспортных судов было потоплено 1, то в мае было потеряно уже 9 судов из 57[lxx].
В конце июня — начале июля произошла известная история с конвоем
PQ-17, который был по существу брошен на произвол судьбы британским эскортом. Из 33 судов до советских портов не дошло 22, потопленных немецкими подлодками и самолётами. Вдобавок пострадал и обратный конвой QP-13. Из-за навигационной ошибки он наскочил на английское минное поле у берегов Исландии и потерял 5 транспортов. Под предлогом большого урона англичане прекратили отправку конвоев. Нашёлся и ещё один повод — необходимость сосредоточить транспортные суда для высадки англо-американских войск в Северной Африке. Отправив в сентябре конвой PQ-18, Лондон снова прекратил поставки через Арктику до наступления полярной ночи. С учётом того, что тихоокеанский маршрут ещё не развернулся в полном масштабе, а перегон самолётов по трассе Аляска-Сибирь только налаживался, картина военно-экономической помощи союзников СССР складывалась удручающая.
В послании И. В. Сталина британскому премьеру от 23 июля говорилось: «…Я никак не мог предположить, что Правительство Великобритании откажет нам в подвозе военных материалов именно теперь, когда Советский Союз особенно нуждается в подвозе военных материалов в момент серьезного напряжения на советско-германском фронте. Понятно, что подвоз через персидские порты ни в какой мере не окупит той потери, которая будет иметь место при отказе от подвоза северным путём»[lxxi]. Когда в августе У. Черчилль приехал в Москву, Сталин И. В., выразив ему благодарность за помощь по ленд-лизу, тем не менее снова предъявил претензии относительно того, что западные союзники не выполняют в полном объеме свои обязательства по поставкам, «дают не то, что обещано»[lxxii].
Союзники и сами почувствовали необходимость форсировать работы в зоне Персидского залива для резкого увеличения поставок в СССР. Ответственность за организацию грузопотоков в Советский Союз взяли на себя Соединённые Штаты. Принципиальное решение об этом было принято Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем в июле. Но потребовалось ещё два месяца, чтобы его доработать и начать реализовывать[lxxiii]. Американцы, обладая гораздо большими ресурсами и возможностями, чем англичане, с присущими им энергией и деловой хваткой принялись за работу. Руководила этой деятельностью специально созданная Команда обслуживания Персидского залива (Persian Gulf Service Command) со штаб-квартирой в Басре[lxxiv].
Англичане, а затем и американцы не могли поначалу использовать иранскую территорию для масштабной помощи Советскому Союзу из-за слабости транспортной инфраструктуры страны. Одно из её ключевых звеньев — Транс-иранская железная дорога. Она была построена в 1927–1938 годах и тянулась от порта Бендер-Шах (совр. Бендер-Торкеман) на Каспийском море через Тегеран до порта Бендер-Шахпур (совр. Бендер-Хомейни) в Персидском заливе. Проложена дорога была по местностям с очень сложным рельефом. Трасса длиной 1394 км имела около 230 тоннелей, 4100 мостов, и поднималась на максимальную высоту 2200 м над уровнем моря. Затяжные крутые подъемы и спуски, длинные тоннели, в которых паровозные команды задыхались от дыма, нехватка воды по пути следования — всё это предъявляло особые требования к технике и людям, которые её использовали. Уложенные на ряде участков относительно лёгкие рельсы ограничивали нагрузку на железнодорожный путь. В некоторых случаях эксплуатационные возможности дороги были столь ограничены, что требовалось прокладывать обходные или альтернативные пути.
Под руководством западных инженеров началась реконструкция железных дорог, поставка локомотивов и вагонов и всего необходимого оборудования. Осуществлялось строительство автодорог, идущих с юга на север страны.
Расширять надо было порты в Персидском заливе и на Каспии. Так, например, Бушир по большому счёту и портом назвать было трудно. Там не было ни причалов, ни подъездных путей, ни кранов, только таможенные пункты, почта, телеграф, небольшие автомастерские и узкоколейка, соединяющая мол со складом. Из-за мелководья суда вынуждены были бросать якорь в 10–12 милях от берега, а грузы переправляли на берег на парусниках. Вдобавок в Бушире не было питьевой воды, и ее доставляли на кораблях из Басры или даже из Бомбея и Карачи. Население города испытывало страшный голод и питалось в основном саранчой[lxxv].
Многие другие порты также нуждались в масштабной реконструкции. Некоторые из них были расположены на реке Шатт-эль-Араб, разделяющей Иран и Ирак. Эта река образуется от слияния Тигра и Евфрата и впадает в Персидский залив. Она настолько полноводна, что по ней могли подниматься вверх океанские суда.
Рядом с Абаданом на иранском берегу находился другой порт — Хорремшехр, связанный с Тегераном железной дорогой и плохой щебёночной шоссейной дорогой. В декабре 1941 года рядом с ним англичане стали строитель новую пристань Сентаб. Через год там появились американцы, и уже в мае 1943 года там была пристань с семью причалами, от которых к берегу шли шестикилометровые эстакады с железнодорожными и автомобильными путями. В Хорремшехре был возведен крупный автосборочный завод.
На той же реке Шатт-эль-Араб, но на иракском берегу располагался крупный порт Басра. Он стал важным перевалочным пунктом для ленд-лизовских поставок в СССР. По сути это была целая система портов, которая включала также порты Маргил, Танума, Чейбасси, Ашар.
На юго-западе Ирана на берегу Персидского залива находился порт Бендер-Шахпур. Располагался он на острове в заливе Хор-Муса. Здесь разгрузка судов первоначально возможна была только на железнодорожный путь, который шёл от пристани по эстакаде до острова, дальше пересекал его по насыпи и потом уходил к материку по мелководью залива. Англичане и американцы построили здесь новый пирс, причалы, железнодорожные пути, 10 крытых складов и т. п. Пропускная способность этого порта скакнула с 200 до 5000 тонн в сутки.
Перестраивать пришлось и порты на Каспийском море. Но их реконструкция проводилась не англичанами и американцами, а силами Наркомфлота СССР и других советских организаций. В юго-восточной части побережья в Горганском заливе располагался порт Бендер-Шах. Так, с марта по ноябрь 1942 года там были возведены два причала в дополнении к имевшимся двум, укреплен пирс, углублены подходы к пирсу и прорыт глубокий 15-километровый канал для выхода в открытое море, проложены железнодорожные пути и шоссейная дорога от порта до города. Реконструкция продолжалась в 1943–1944 годах. В итоге там вырос современный порт с двумя нефтепричалами, двумя бензоэстакадами, разветвленной сетью подъездных путей, электростанцией, жилым городком и многими другими сооружениями.
В порту Пехлеви (совр. Энзели) на юго-западном берегу Каспия был расчищен и углублён канал, возведен дополнительный причал, уложена узкоколейка, смонтированы привезённые из Баку механизмы, построены склады. В Ноушехре на южном берегу Каспийского моря пришлось углублять подходы к порту, устанавливать краны и другие механизмы, доставленные из Советского Союза. Особой осторожности требовали транспортировка в СССР высокооктанового бензина и пороха.
Необходимо было не только реконструировать порты, но и наладить их бесперебойную деятельность. Как вспоминал Л. И. Зорин, направленный в Иран Наркомвнешторгом СССР для руководства с советской стороны всеми операциями по транспортировке ленд-лизовских грузов, работа порта Бушир была организована следующим образом. «К борту парохода подходили большие парусники с местными грузчиками. На эти парусники с помощью механизмов парохода перегружали из трюмов тяжёлые ящики. Затем парусники доставляли ящики к берегу через узкий, ограждённый сигналами фарватер. Нередко — во время приливов и отливов, из-за перегрузки, в штормовую погоду — ящики падали в воду и тонули.
Ящики с полусобранными на автозаводах автомобилями выгружались на таможенном дворе и по специально проложенной узкоколейной дороге доставлялись на место сборки, которая производилась вручную. Качество сборки было весьма низким, многие машины нуждались в переделки, т. к. собирали их неквалифицированные рабочие».
Л. И. Зорин подметил и такую любопытную деталь: «американцы не считали нужным возиться с неисправными машинами даже в том случае, если дефект был незначительным. Они просто выбрасывали их на свалку. Возле Андимешка [с автосборочным заводом] образовалось кладбище таких машин. Американцы удивлялись нашему требованию непременно иметь 17 процентов запасных частей, которые им были ни к чему». Видя такое расточительство, советские специалисты взялись восстанавливать даже те машины, которые казались абсолютно безнадёжными. Это позволило свести к минимуму потери грузовиков»[lxxvi].
Большие трудности были связаны с обеспечением всех объектов рабочей силой. Помимо британского, американского и советского персонала, приходилось привлекать значительное количество местных жителей. Например, они занимались разгрузкой судов. При нищенской зарплате типичный обед грузчика состоял из лаваша, нескольких фиников и речной воды. «При таких „харчах“, — отмечал Л. И. Зорин, — разгрузка пароходов шла очень медленно и вяло. Нередко полуголодные и исхудавшие грузчики, забираясь в укромные закоулки, на короткое время засыпали смертельным сном»[lxxvii]. Для облегчения и ускорения поставок транспортных средств в СССР, возводились авиа- и автосборочные предприятия: в Абадане, Андимешке, Хорремшахре и др. Работа на этих заводах, расположенных на юге Ирана или в Ираке, требовала максимальной отдачи от местных рабочих, от американских и английских инженеров, от советских лётчиков и сотрудников приёмных комиссий. Трудиться приходилось с 3–4 часов до 11 часов утра. Позднее металл раскалялся настолько, что можно было получить ожоги.
Собранные самолёты с советскими экипажами из специальных перегоночных полков перелетали на советскую территорию. Автомашины (в основном этим это были «студебеккеры») своим ходом шли к советской границе. Для их перегонки советских автомобильных частей и гражданских шофёров явно не хватало. Ведь каждый водитель мог не чаще одного раза в месяц совершить двух тысяче километровый рейс из портов Персидского залива до границ СССР. Пришлось в спешном порядке готовить местные кадры.
Перегонка автомобилей (как правило, с полным кузовом грузов) осуществлялась в очень сложных климатических и природных условиях. Узкие горные дороги со слепыми поворотами, раскалённые пустыни с пыльными бурями, жара и непогода, — всё это приходилось преодолевать советским и местным водителям. Не мудрено, что на этом опасном и долгом маршруте осталось немало их могил.
Транспорты надо было охранять не только от бандитов и воров, но и от мятежных племён, которые не подчинялись центральному правительству, да к тому, же могли быть подкуплены немецкими агентами.
Минусом Трансиранского маршрута была затрата очень большого времени для его преодоления. Суда с Восточного побережья США вокруг Африки шли до портов Персидского залива около 75 дней. Это срок удалось сократить только после того, как в 1943 году из войны вышла Италия и появилась возможность идти не вокруг Африки, а через Средиземное море.
Для переброски самолётов был налажен трансафриканский маршрут. Американцы вслед за англичанами стали летать из США с промежуточной посадкой на британских базах в Вест-Индии или на аэродромах северо-востока Бразилии (Белем, Натал). Затем путь шёл через Атлантику до британских (с конца 1942 года и французских) владений в Западной Африке, оттуда в Хартум и далее в Каир и по всему Ближнему Востоку. Позднее маршрут был продлен в Индию и на Дальний Восток. После открытия авиабазы на острове Вознесения (июль 1942 года) летать через Атлантику могли не только 4-моторные, но и 2-моторные самолёты. Истребители везли в разобранном виде на судах и собирали на заводе в Такоради (Золотой Берег/Гана), откуда они шли над Африкой своим ходом.
Американцы развернули на этом маршруте всю необходимую инфраструктуру: наладили навигацию, радиосвязь и метеослужбу, построили взлетно-посадочные полосы с твёрдым покрытием, ангары, ремонтные и сборочные заводы и др. Это был самый быстрый путь поставок вооружений по воздуху из США в Азию, Европу и Африку. Тем более, что зимой летать через Северную Атлантику было практически невозможно, и путь через Бразилию и Западную Африку приобретал особое значение.
Одно из продолжений трансафриканского маршрута пошло через Персидский залив и Иран в Советский Союз[lxxviii].
Несмотря на все усилия союзников, пропускная способность «персидского коридора» поначалу росла не теми темпами, как хотелось бы. В августе 1941 года она составляла всего 10 тысяч тонн грузов в месяц. В сентябре 1942 года объем поставок вырос до 40 тысяч тонн грузов, в январе 1943 года — до 51 тысячи тонн. Резкий рост перевозок будет отмечен уже в 1943 году[lxxix].
Пройдя через территорию Ирана, грузы далее поступали в советское Закавказье или — в меньшей степени — в Среднюю Азию. Значительная часть доставлялась на советскую территорию морским путем по Каспийскому морю. Советскому военному и морскому флоту надо было обеспечить воинские, пассажирские, народнохозяйственные перевозки. Первые месяцы войны это еще как-то удавалось, но поток перевозимых войск, беженцев, эвакуируемых материальных ценностей всё нарастал. Уже к сентябрю 1941 года пришлось задействовать все наличные плавсредства. Доки и судоремонтные заводы перешли на круглосуточную работу, чтобы обеспечить функционирование флота и вернуть в строй списанные суда. Но когда в октябре через Иран пошёл поток грузов по ленд-лизу, ситуация осложнилась до предела. Пришлось изыскивать новые способы увеличения грузоперевозок. Например, для ускорения перегрузки танков с железнодорожных платформ на суда стали выкладывать специальные настилы из шпал и рельсов, по которым танки своим ходом перемещались с платформы на палубу. Так получалось быстрее, чем при использовании плавучего крана. Чтобы танки можно было грузить не только на палубу, но и в трюмы, расширили люки. Чтобы не терять лишнего места — вырезали отверстия в цепных ящиках, и танки вставали вплотную к переборкам.
Потребовалась реконструкция и расширение советских портов под ленд-лизовские грузы. Так было, в частности, в Баку, Астрахани, Гурьеве.
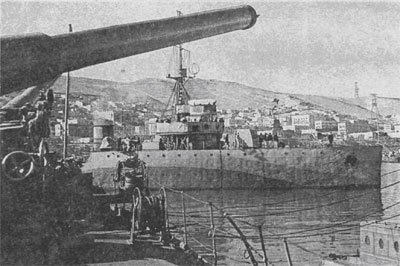
Бакинский порт
Зимой 1941–1942 годов на севере Каспия впервые пришлось проводить навигацию в ледовых условиях. Ждать благоприятной погоды было некогда.
Весной–летом 1942 года пришлось отвлекать тоннаж на неожиданно возникшую потребность перебросить через Каспий польскую армию генерала В. Андерса из Советского Союза в Иран. Эта армия в соответствии с советско-польским соглашением формировалась на территории СССР и должна была вступить в боевые действия на советско-германском фронте. Но поляки под всяческими предлогами уклонялись от этого своего обязательства, добившись при активной поддержке англичан согласия Москвы на свой уход. В итоге через Красноводск в Иран было эвакуировано около 70 тысяч польских военнослужащих и примерно 38 тысяч членов их семей.
Но все эти трудности показались мелочью, когда дельта Волги и северная часть Каспия стали подвергаться налётам вражеской авиации.
В ночь на 20 июня 1942 года над устьем Волги появился первый немецкий бомбардировщик. Начались бомбардировки и минирование акваторий. Особенно ожесточённым атакам подвергался астраханский рейд, где происходила перегрузка с морских судов на речные (в августе–ноябре — более 200 налётов). С 8 августа Каспийская военная флотилия была объявлена действующей. Для прикрытия перевозок ей пришлось сосредоточить в северной части моря практически весь свой корабельный состав. Тем не менее, советская сторона несла потери. За навигацию 1942 года 46 судов каспийского торгового флота были атакованы самолётами противника, 14 из них погибли[lxxx].

Каспийская военная флотилия на боевом дежурстве
В 1941–1942 годах «персидский коридор», объединив морские, воздушные и сухопутные пути ленд-лизовских поставок в СССР, сыграл важную роль в налаживании военно-экономического сотрудничества стран антигитлеровской коалиции. Он стал одним из важнейших маршрутов поставок по ленд-лизу из США и Великобритании в Советский Союз. Если в 1941 году его доля составила всего 3,7%, то в 1942 году поднялась до 28,8% , а в 1943 году до 33,5%. Всего за годы войны этим путем было перевезено 23,8 % грузов. Масштабнее были только поставки через Тихий океан (47,1%)[lxxxi].
…Немецкий адмирал на Каспийском море ни в 1942 году, ни позднее так и не появился. Зато в 1945 году появился советский комендант Берлина. Это стало результатом боевого союза государств антигитлеровской коалиции. Ярким проявлением их сотрудничества было создание и функционирование «персидского коридора» для ленд-лизовских поставок в страну, армия которой взяла Берлин.
[i] Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В 2-х т. Изд. 2-е. Т. 1. Переписка с У. Черчиллем и К. Эттли. (Июль 1941 г. — ноябрь 1045 г.). М., Политиздат, 1976. С. 84 (далее: Переписка…).
[ii] Гланц Д., Хадс Д. Битва титанов. Как Красная Армия остановила Гитлера. М., Издательство Астрель; АСТ; 2007. С. 138.
[iii] Bellamy C. Absolute War. Soviet Russia in the Second World War: a modern history. Pan Books, 2007. P. 503–504.
[iv] Тике В. Марш на Кавказ. Битва за нефть. 1942/1943/пер. с нем. М., Эксмо, 2005. http://needlib.com/bibl/ index.php?page=4&Id=59926
[v] См.: Стрелянов П. Н. (Колобухов). Казаки в Персии. 1909–1918. М., ЗАО Центрполиграф, 2007; Шишов А. В. Персидский фронт (1909–1918). Незаслуженно забытые победы. М., Вече, 2010.
[vi] См.: Мамедова М. Н., Дунаева Е. В., Оришев А. Б. Советский Союз и Иран (1933–1945). В кн.: СССР и страны Востока накануне и в годы второй мировой войны/отв. редактор В. В. Наумкин. М., Институт востоковедения РАН, 2010. С. 277–278 (далее: СССР и страны Востока…); Широкорад А. Б. Каспий — русское озеро. Великий волжский путь. Большая нефть и большая политика. М., АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. С. 250–256.
[vii] Штеменко С. М. Генеральный штаб в годы войны. От Сталинграда до Берлина. М., АСТ, Транзиткнига, 2005. С. 27–28.
[viii] Очерки истории российской внешней разведки. Т. 4. 1941–1945 годы. М., Международные отношения, 2003. С. 326.
[ix] См.: Оришев А. Б. Иранский узел. Схватка разведок. 1936–1945 гг. М.; 2009; Его же. В августе 1941-го. М., 2011.
[x] СССР и страны Востока…С. 278–280.
[xi] Oxford Companion to the Second World War. by Oxford University Press, 2005. P. 682.
[xii] См., например: СССР и страны Востока….; Оришев А. Б. Иранский узел.; Его же. В августе 1941-го.
[xiii] См.: Дашичев В. И. Банкротство стратеги германского фашизма. Исторические очерки. Документы и материалы. Т. 2. Агрессия против СССР. Падение «третьей империи». 1941–1945 гг. М., 1973. С. 42–49, 235–241. Gilbert M. A History of the Twentieth Century. Volume Two: 1933–1951. N. Y., 1998. P. 376.
[xiv] Очерки истории российской внешней разведки. Т. 4. С. 327.
[xv] Ланда Р. Г. История арабских стран. М., 2005. С 208, 215, 220.
[xvi] Оришев А. Б. В августе 1941-го. С. 72.
[xvii] Рашид Али бежал в Иран вместе с германским и итальянским посланниками и иерусалимским муфтием. Потом он перебрался в Германию, где стал ведущим арабским коллаборационистом и пропагандистом нацизма.
[xviii] Черчилль У. Вторая мировая война: В 3-х кн. Кн. 2. Т. 3: Великий союз. М., 2010. С. 163–167; де Голль, Ш. Военные мемуары. Призыв 1940–1942 годы. М., 1957. С. 195–236.
[xix] В 1941 году бригада держала оборону в ливийском Тобруке. Впоследствии вместе с ушедшей в 1942 году из СССР польской армией генерала В. Андерса она была переформирована и вошла в состав 2-го польского корпуса, воевавшего в Италии.
[xx] Вторая мировая война. Нападения Японии: Иллюстрированная история/пер. с англ. М., 2007. С. 114.
[xxi] Черчилль У. Указ. соч. С. 182.
[xxii] СССР и страны Востока… С. 283
[xxiii] Черчилль У. Указ. соч. С. 244.
[xxiv] Переписка… С. 40.
[xxv] Документы внешней политики СССР. Том 24. 22 июня 1941 г. — 1 января 1942 г. М., Международные отношения, 2000. С. 10, 14.
[xxvi] Там же. С. 48, 63.
[xxvii] Там же. С. 61
[xxviii] Там же. С. 122–123, 132 и др.
[xxix] Там же. С. 86–87, 116, 227.
[xxx] Там же. С. 576.
[xxxi] Бережков В. М. Страницы дипломатической истории. М., 1982. С. 99–100.
[xxxii] Юнгблюд В. Т., Чучкалов А. В. Политика США в Иране в годы второй мировой войны. Киров; 2011. С. 68–84.
[xxxiii] Там же. С. 128, 227.
[xxxiv] Черчилль У. Указ.соч. С 246.
[xxxv] Hastings Max. Finest Years. Churchill as Warlord 1940–1945. L., Harpers Press, 2010. P. 162. О правовой оценке советско-британской акции см.: Юнгблюд В. Т., Чучкалов А. В. Указ. соч. С. 68–84.
[xxxvi] Оришев А. Б. В августе 41-го. С. 115.
[xxxvii] Документы внешней политики СССР. Т. 3. М., Политиздат, 1959. С. 538–539.
[xxxviii] Документы внешней политики. 22 июня 1941–1 января 1942… С. 256–260.
[xxxix] О военном аспекте рассматриваемых событий см.: Голуб Ю. Г. 1941: Иранский поход Красной Армии. Взгляд сквозь годы//Отечественная история. 2004. № 4; Его же. Малоизвестная страница великой войны: советская оккупация Северного Ирана в августе–сентябре 1941 г http://www.sgu.ru/files/nodes/10082/27.pdf; Любин Д. М. Ввод Красной Армии в Иран летом–осенью 1941 года: Причины, осуществление, последствия. Дисс…канд. ист. наук. Саратов. 2005; Монин С. М. «Дело с Ираном действительно вышло неплохо…» // Международная жизнь. 2011, № 8; Оришев А. Б. В августе 1941-го; Ходеев Ф. П. Советско-английское принуждение Ирана к лояльности в 1941 году//Военно-исторический журнал. 2011. № 9.
[xl] Переписка…, С. 27,29.
[xli] Документы внешней политики. 22 июня 1941 — 1 января 1942… С. 314.
[xlii] Там же. С. 202–205.
[xliii] Нефть для самой метрополии везти вокруг мыса Доброй Надежды было слишком далеко, и поэтому туда она поступала из Америки. Hastings Max. Op. cit. P. 117.
[xliv] Исаев А. Перелом 1942. Когда внезапности уже не было. М., Яуза; Эксмо, 2012. С. 144.
[xlv] В декабре 2009 года президент Исламской Республики Иран М. Ахмадинежад дал своей администрации распоряжение оценить ущерб, который был нанесен Ирану пребыванием на его территории воинских контингентов стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — во время Второй мировой войны. Планировалось потребовать от международных институтов компенсации этого урона «для восстановления прав иранского народа». «Газета», 2009, 22 декабря.
[xlvi] Черчилль У. Указ.соч. С 205.
[xlvii] Переписка…, С. 40.
[xlviii] Документы внешней политики. 22 июня 1941 — 1 января 1942… С. 362–363.
[xlix] Переписка… С. 19, 29, 32.
[l] Переписка… С. 34, 36.
[li] Документы внешней политики. 22 июня 1941 — 1 января 1942… С. 375–376.
[lii] Переписка… С. 44.
[liii] Голуб Ю. Г. Малоизвестная страница великой войны: советская оккупация северного Ирана в августе– сентябре 1941 года.http://www.sgu.ru/files/nodes/10082/27.pdf ; Его же. 1941: Иранский поход Красной Армии. Взгляд сквозь годы// Отечественная история. 2004, № 3, С. 25; Гасанлы Дж. П. СССР — Иран: Азербайджанский кризис и начало холодной войны (1941–1946 гг.). М., Герои Отечества, 2006. С. 9–10; Любин Д. М. Указ. соч.
[liv] 54 См.: Гасанлы Дж П. СССР — Иран: Азербайджанский кризис и начало холодной войны (1941–1946 гг.). М., Герои Отечества, 2006; Егорова Н. И. «Иранский кризис» 1945–1946 гг. по рассекреченным архивным документам // Новая и новейшая история, 1994. № 3.
[lv] Оришев А. Б. В августе 1941-го. С. 76.
[lvi] Черчилль У. Указ. соч. С. 246–247.
[lvii] См.: Мощанский И. Б. Оборона Кавказа. Великое отступление. 25 июля — 31 декабря 1942 года. М., Вече, 2010; Тике В. Указ. соч.
[lviii] История второй мировой войны. 1939–1945. Т. 5. М., Воениздат, 1975. С. 219.
[lix] Тике В. Указ. соч. С. 172–174.
[lx] Лиддел Гарт Б. История второй мировой войны/пер. с англ. М., Астрель, 2012. С. 358–359.
[lxi] Тике В. Указ. соч.
[lxii] История второй мировой войны. 1939–1945. Т. 5.
[lxiii] Широкорад А. Б. Италия. Враг поневоле. М., Вече, 2010. С. 240–253.
[lxiv] Широкорад А. Б. Каспий — русское озеро. Великий волжский путь. Большая нефть и большая политика. М., АСТ: АСТ Москва, Хранитель, 2007. С. 285–286.
[lxv] Переписка… С. 84, 86.
[lxvi] Широкорад А. Б. Италия. С. 250–253.
[lxvii] Переписка… С. 27, 31, 33–34.
[lxviii] Секретная переписка Рузвельта и Черчилля в период войны/пер. с англ. М., ТЕРРА, 1995. С. 183.
[lxix] Супрун М. Н. Ленд-лиз и северные конвои. М., Андреевский флаг, 1997. С. 119.
[lxx] Coakley R. W. The Persian Corridor as a Route for Aid to the USSR. http://www. army.mil/cmh-pg/books/70–7_09.htm
[lxxi] 71 Переписка… С. 69.
[lxxii] Ржешевский О. А. Сталин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дискуссии: Документы, комментарии. 1941–1945. М., Наука, 2004. С. 353.
[lxxiii] Coakley R. W. Op. cit.
[lxxiv] Юнгблюд В. Т., Чучкалов А. В. Указ. соч. С. 136–142.
[lxxv] Зорин Л. И. Особое задание. М., Политиздат, 1987. С. 50–51.
[lxxvi] Там же. С. 62–63.
[lxxvii] Там же. С. 56.
[lxxviii] Френкель М. Ю. Трансафриканский маршрут поставок вооружений из США в СССР в 1941–1945 гг. // США: экономика, политика, идеология. 1993, № 5. С. 42–50.
[lxxix] Coakley R. W. Op. cit.
[lxxx] Широкорад А. Б. Каспий — русское озеро. С. 287–323.
[lxxxi] СССР и страны Востока… С. 285.

Автор: Сергей Михайлович Монин, профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО (У) МИД России.
- 5787 просмотров
Сов. Секретно. 23.09.1942 г. Беседа Сталина и Уилки
Центр военно-политических исследований МГИМО публикует серию рассекреченных материалов, вошедших в издания "Великая Победа" и "Сталинградская битва и ее геополитическое значение".

Сталин и Уилки после беседы
В данной публикации вниманию читателей предлагается документ от 23 сентября 1942 года - запись беседы И.В. Сталина и У.Л. Уилки, на которой также присутствовал В.М. Молотов. Уэнделл Льюис Уилки (1892-1944) - кандидат на выборах в президенты США от Республиканской партии на выборах 1940 г., после поражения на выборах получил приглашение поработать в администрации президента США Франклина Рузвельта. Во время Второй мировой войны был личным представителем президента в Великобритании, на Ближнем Востоке, в СССР и Китае.
В беседе Иосиф Сталин и Уэндел Уилки беседуют о положении дел на других фронтах второй мировой, о предположительных результатах войны, о проблемах и перспективах ленд-лиза. Обсуждают поставляемую технику ее достоинства и недостатки. В частности, очень интересны комментарии Сталина относительно мощности американских и английских танков. В беседе затрагивается вопрос положения дел внутри Германии, настроя ее граждан и послевоенных перспектив. Часть беседы Уилки посвящает вопросу, который просил его разрешить президент Рузвельт. В частности, речь идет о проблемах поляков.
Некоторое время посвящается обсуждению отношения американцев к СССР и положению дел в Сталинграде (напомним, что Сталинградское сражение в этот момент в самом разгаре). Разговор заходит и о положении дел в Аргентине, которое по мнению Сталина и Уилки также имеет очень важное значение. Не остаются без внимания и проблемы на оккупированных территориях СССР, обсуждаются действия партизан. В завершении Уилки обещает по своему возвращению особое внимание уделить вопросам СССР, подчеркнуть их важность и убедить американцев максимизировать свои усилия в помощи советскому народу.
ЦВПИ настоятельно рекомендует не пожалеть 10 минут и погрузиться в увлекательнейшую историю, чтение которой можно сравнить с чтением художественной литературы - настолько интересны и харизматичны ее участники и удивительно осязаема атмосфера того времени.
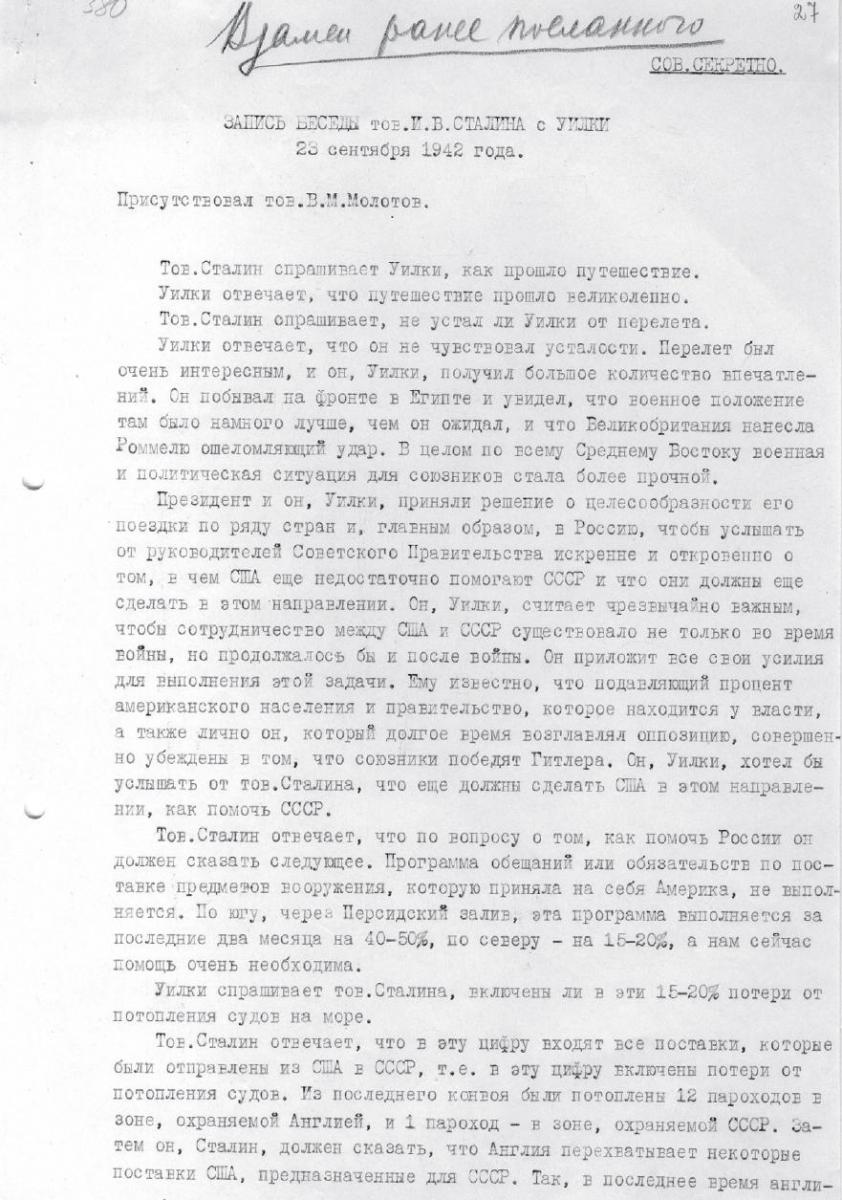
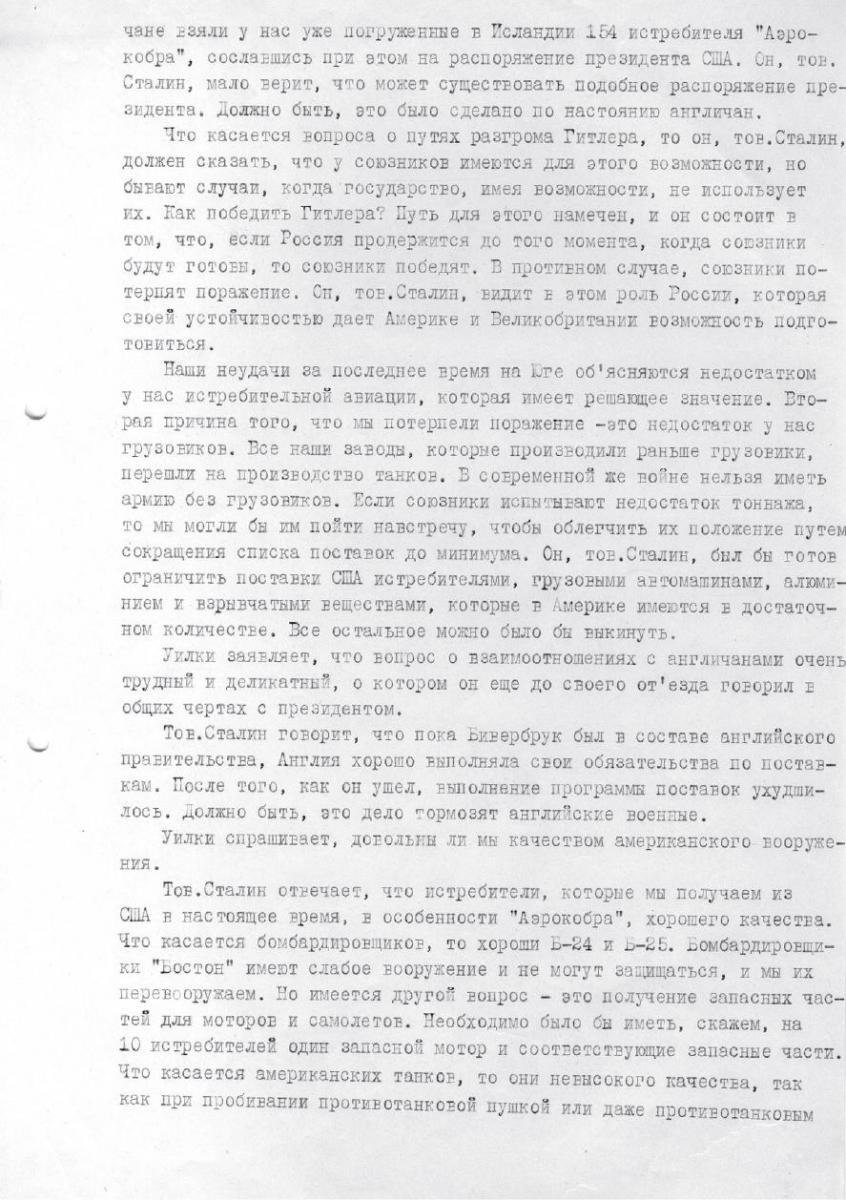
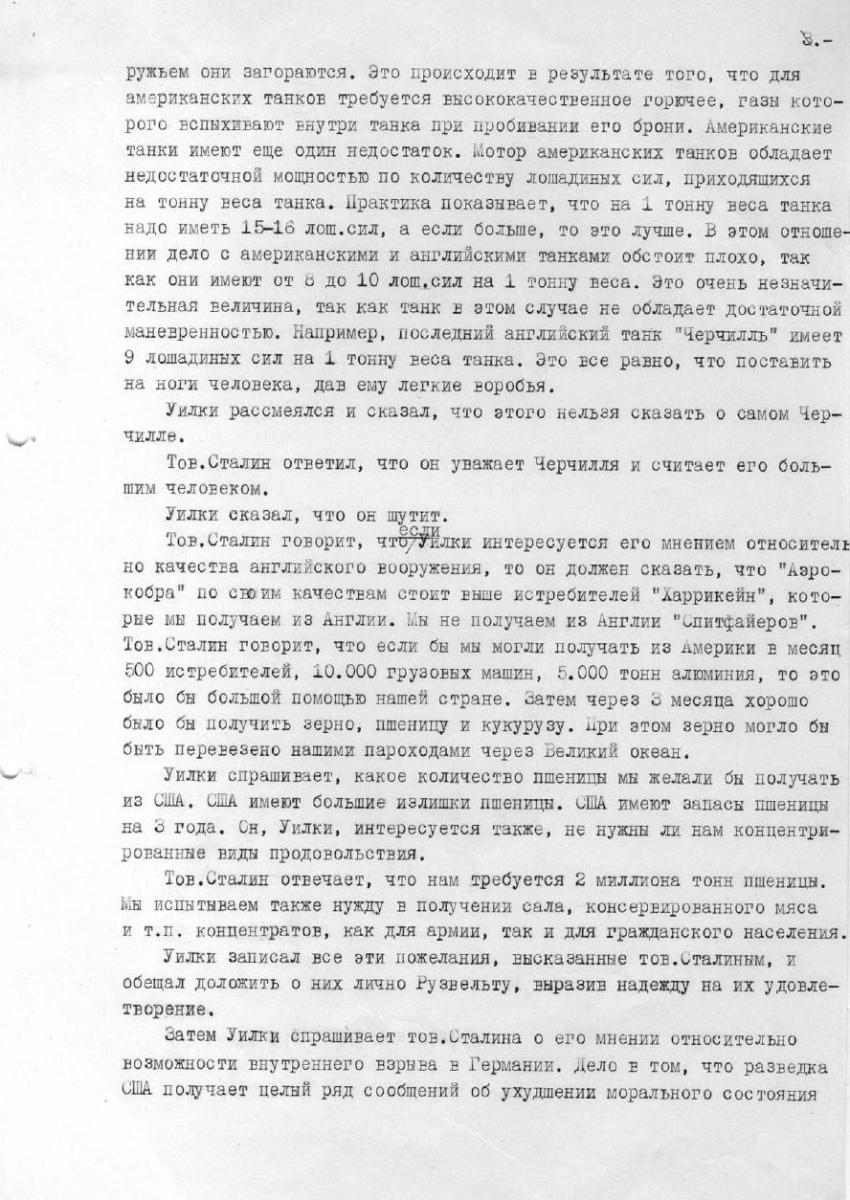
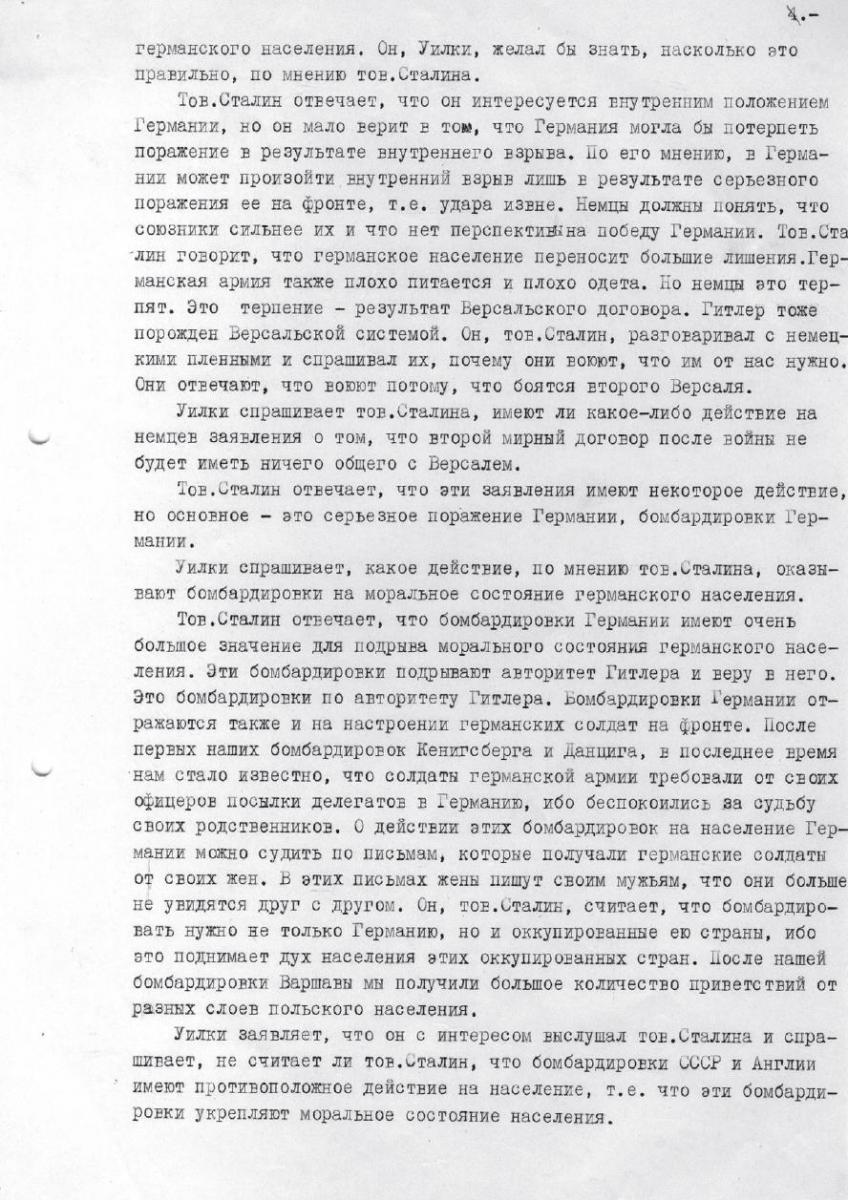
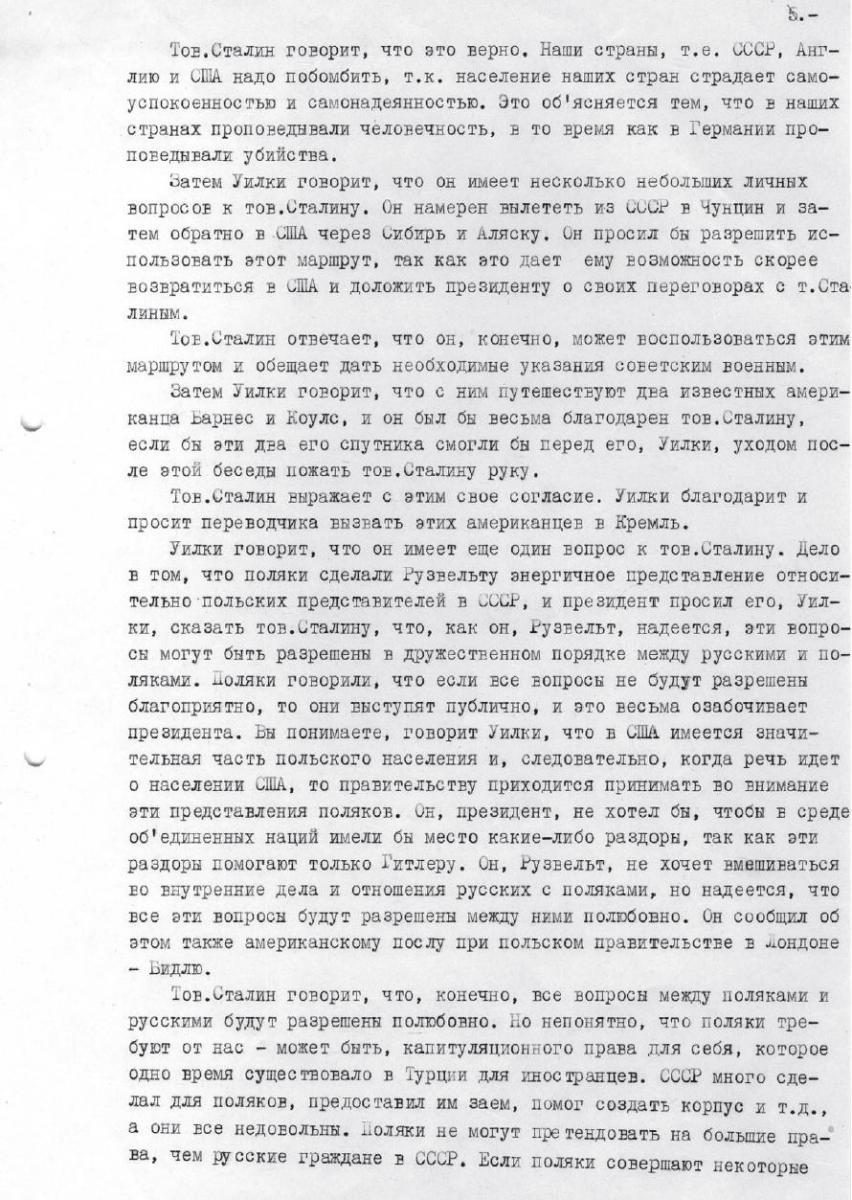
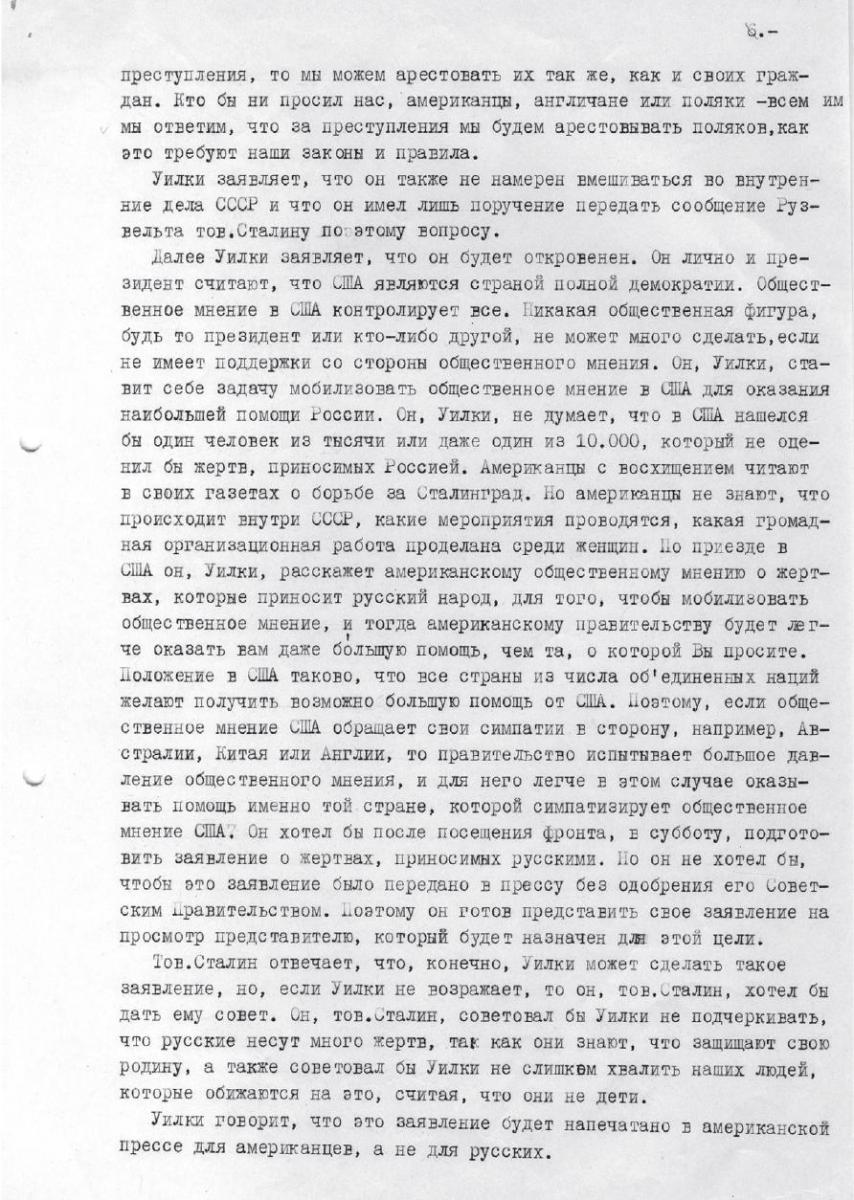
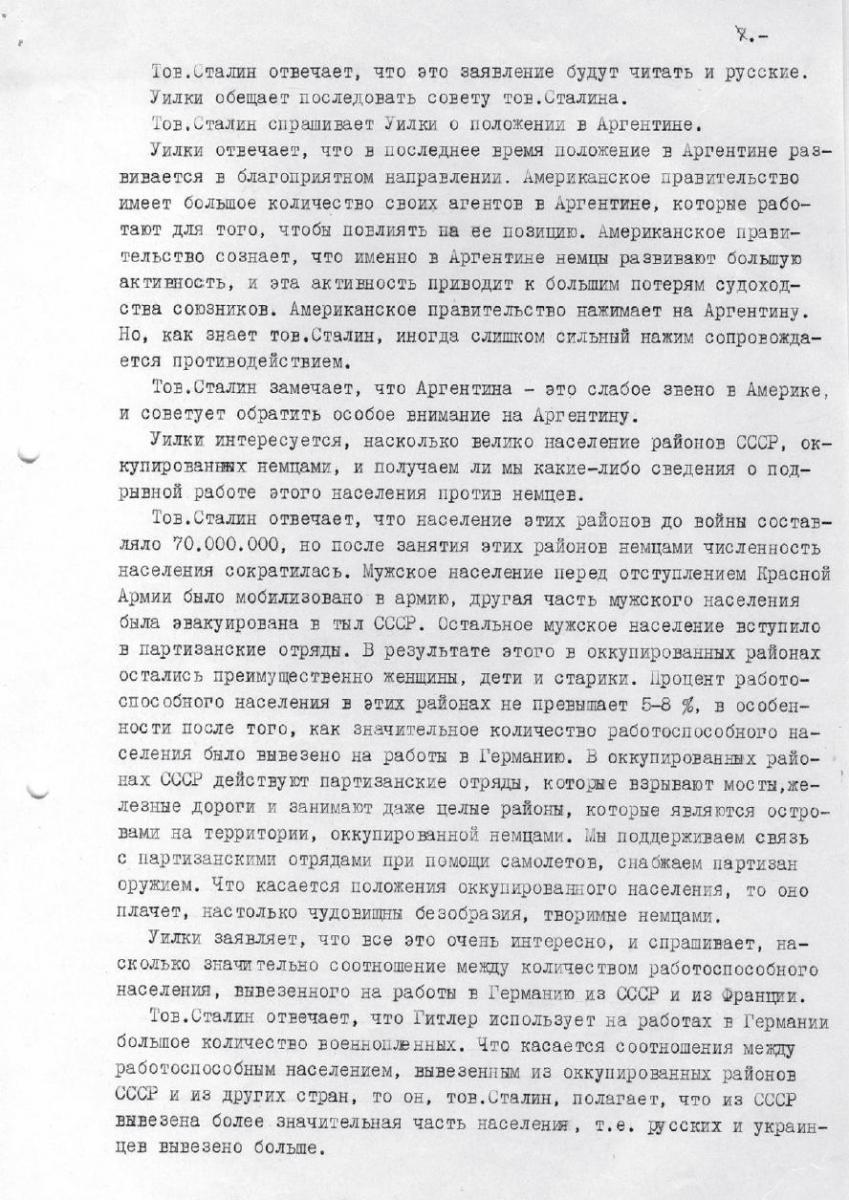
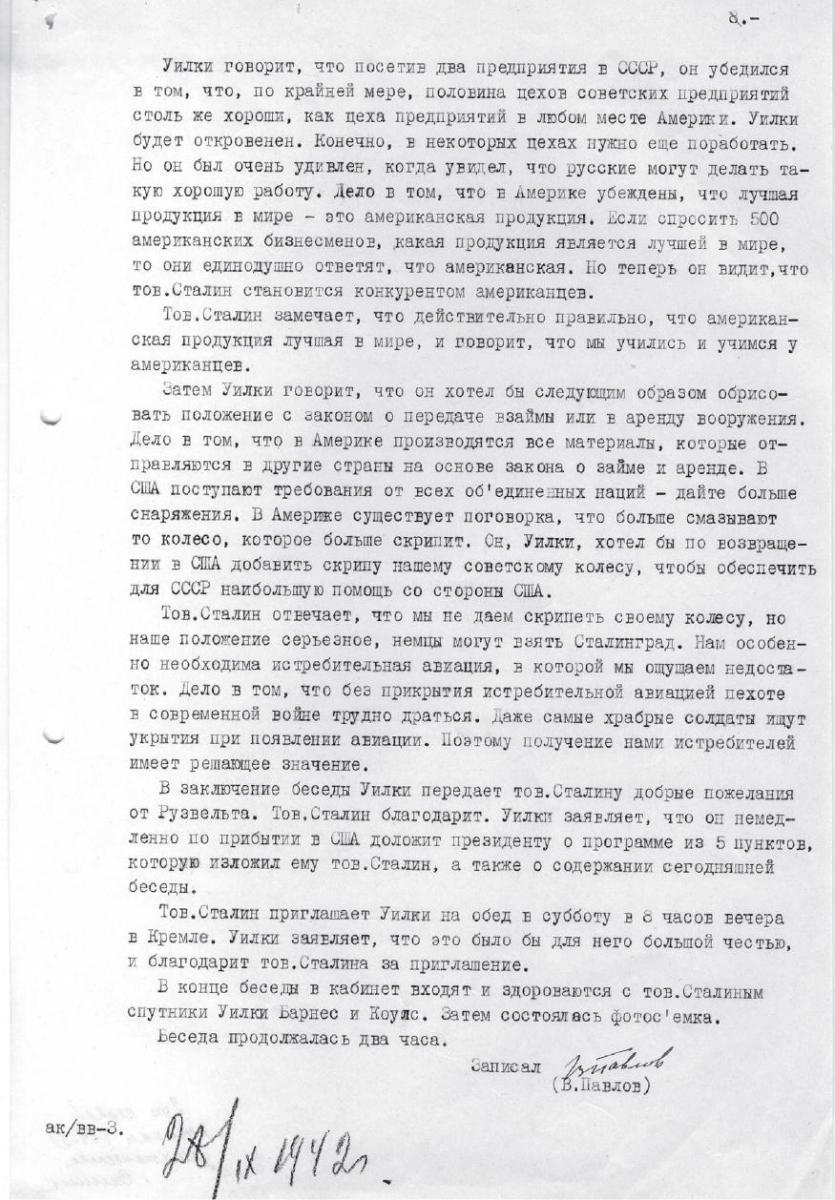
- 4732 просмотра
Эхо Сталинграда: страны мира и победа на Волге
В рамках Спецпроекта Сталинград Центра военно-политических исследований предлагаем ознакомиться с документами из фондов архива внешней политики Российской Федерации, посвященных Сталинградской битве, опубликованными МИД России:
Бельгия
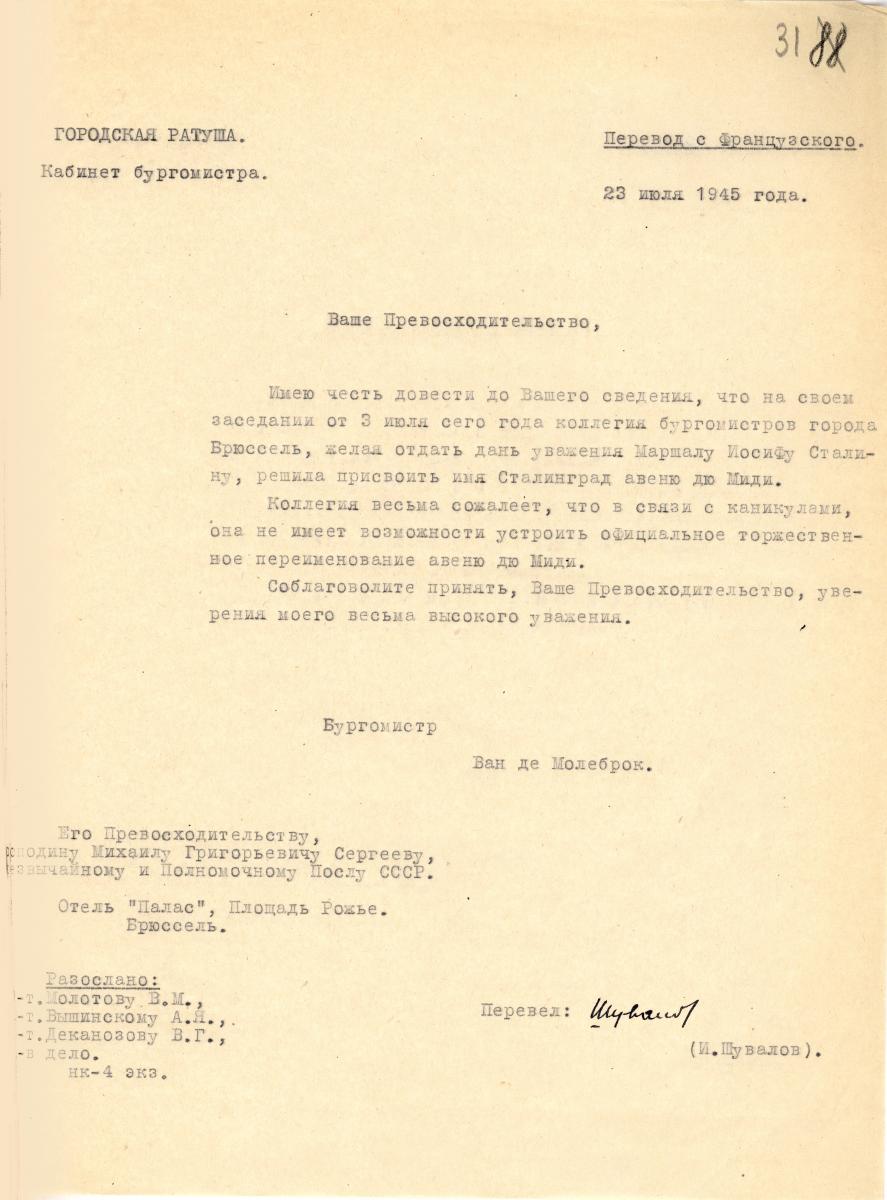
Письмо бургомистра Брюсселя о присвоении имени Сталинграда проспекту Миди.
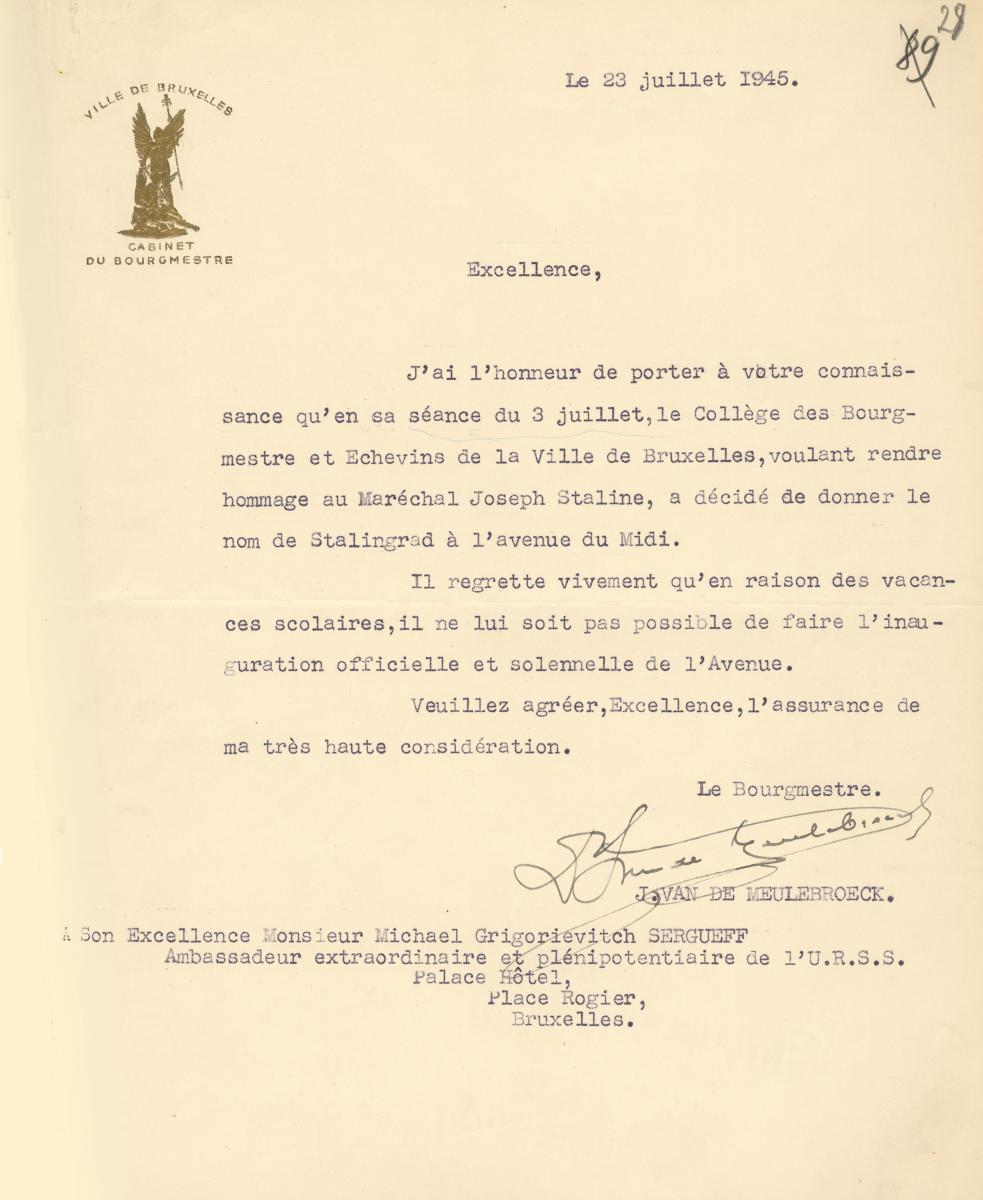
Письмо бургомистра Брюсселя о присвоении имени Сталинграда проспекту Миди (оригинал)
Великобритания
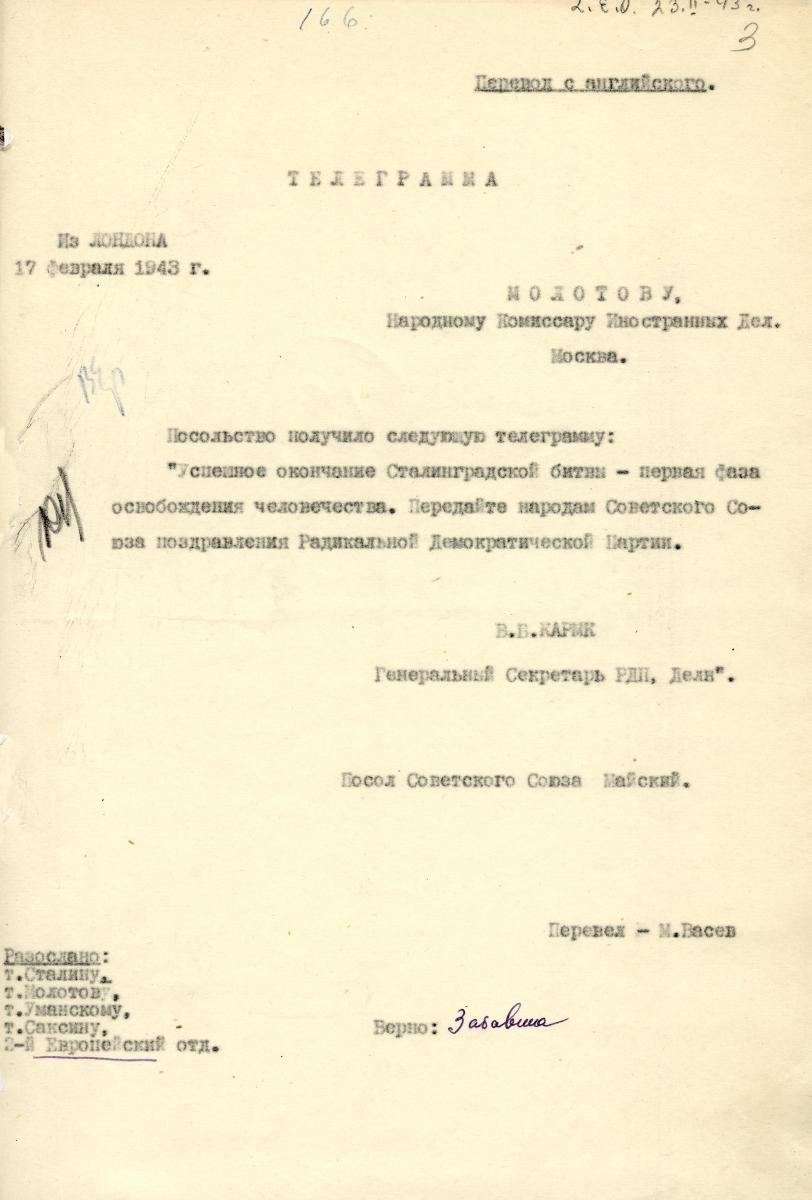
Телеграмма посла СССР в Великобритании И.М.Майского народному комиссару иностранных дел В.М.Молотову, содержащая текст телеграммы, полученной Посольством от Радикальной демократической партии по случаю окончания Сталинградской битвы.
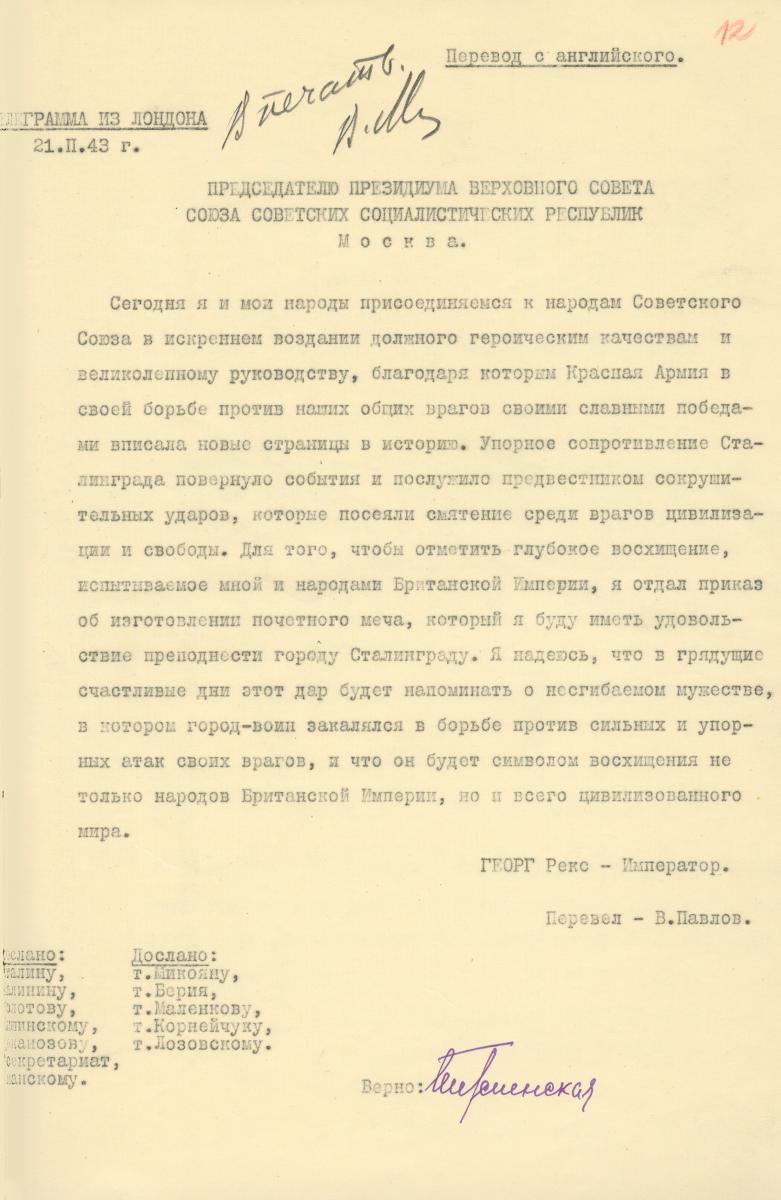
Телеграмма короля Великобритании Георга VI на имя Председателя Президиума Верховного Совета СССР М.И.Калинина с выражением глубокого восхищения несгибаемым мужеством защитников Сталинграда и о намерении преподнести дар городу-воину (перевод с англ.яз.)
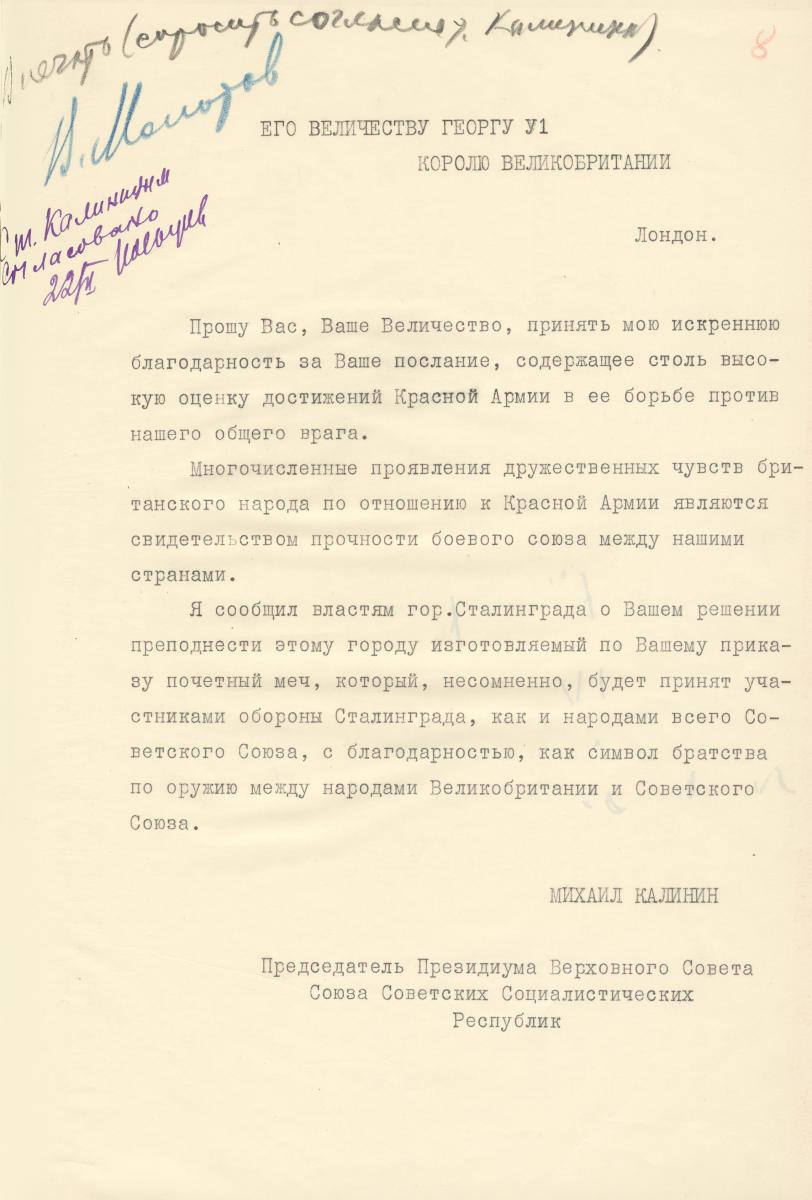
Ответная благодарственная телеграмма М.И.Калинина королю Георгу VI (согласованный руководством проект ответа)
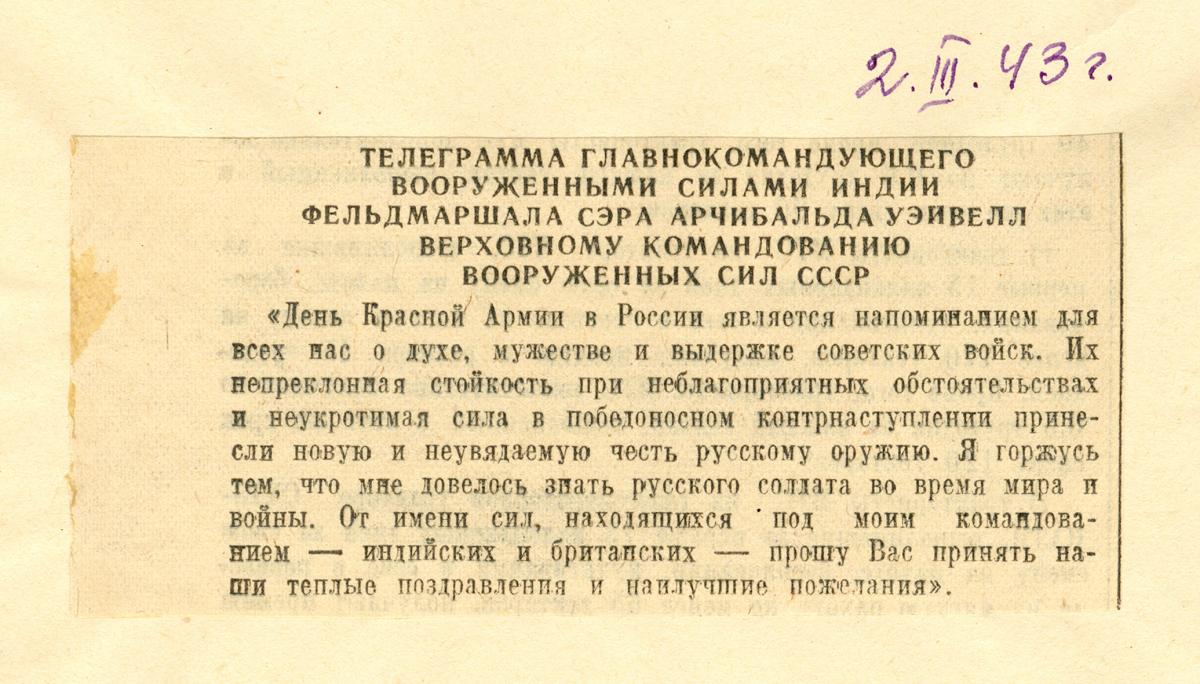
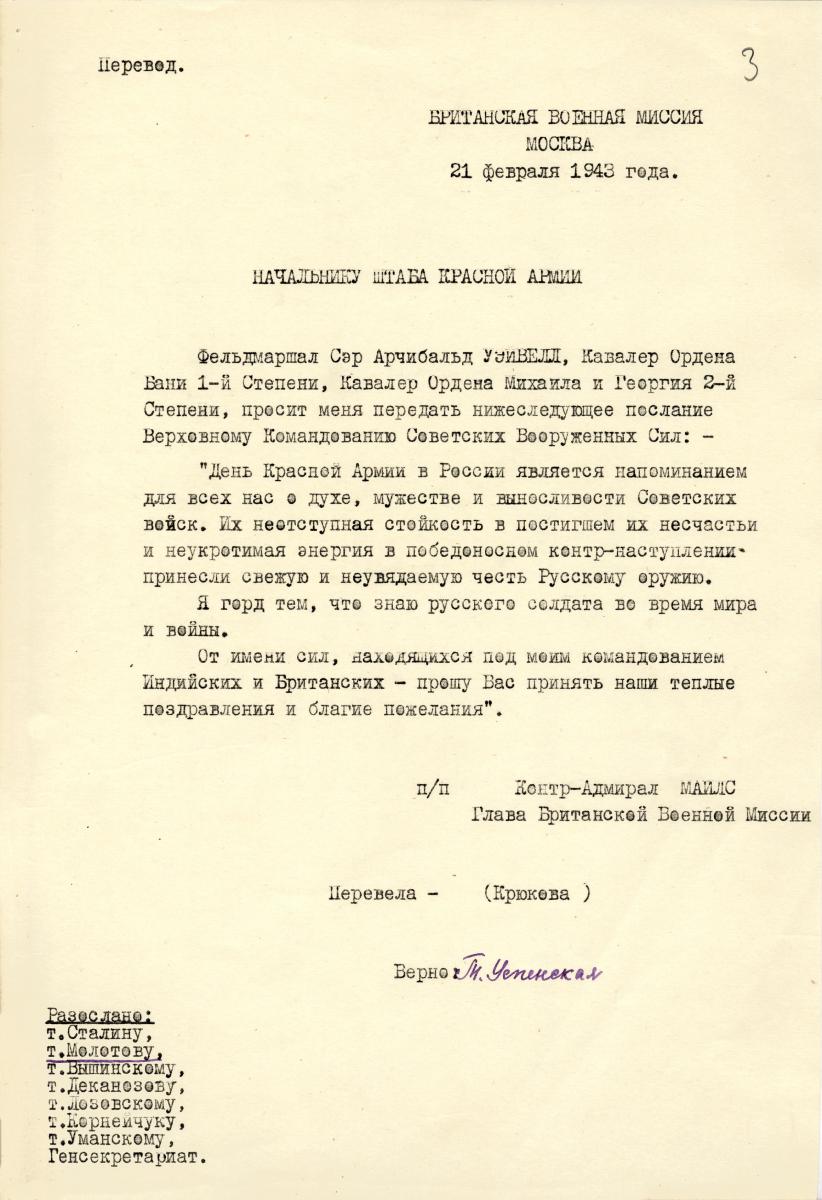
Письмо главы Британской военной миссии в Москве - контр-адмирала Майлса на имя начальника Штаба Красной Армии, препровождающее поздравительное послание главнокомандующего вооруженными силами Индии фельдмаршала сэра Арчибальда Уэйвелла Верховному командованию вооруженных сил СССР по случаю Дня Красной Армии (перевод с англ.яз.; опубликованный в печати 2 марта 1943г.)
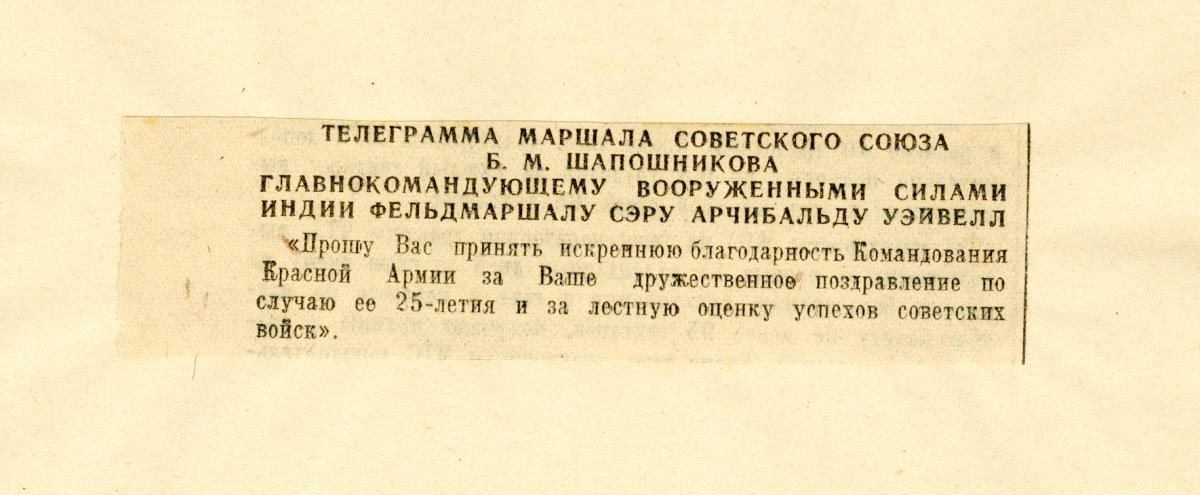
Ответная благодарственная телеграмма маршала Советского Союза Б.М.Шапошникова фельдмаршалу сэру Арчибальду Уэйвеллу (опубликованный в печати текст)
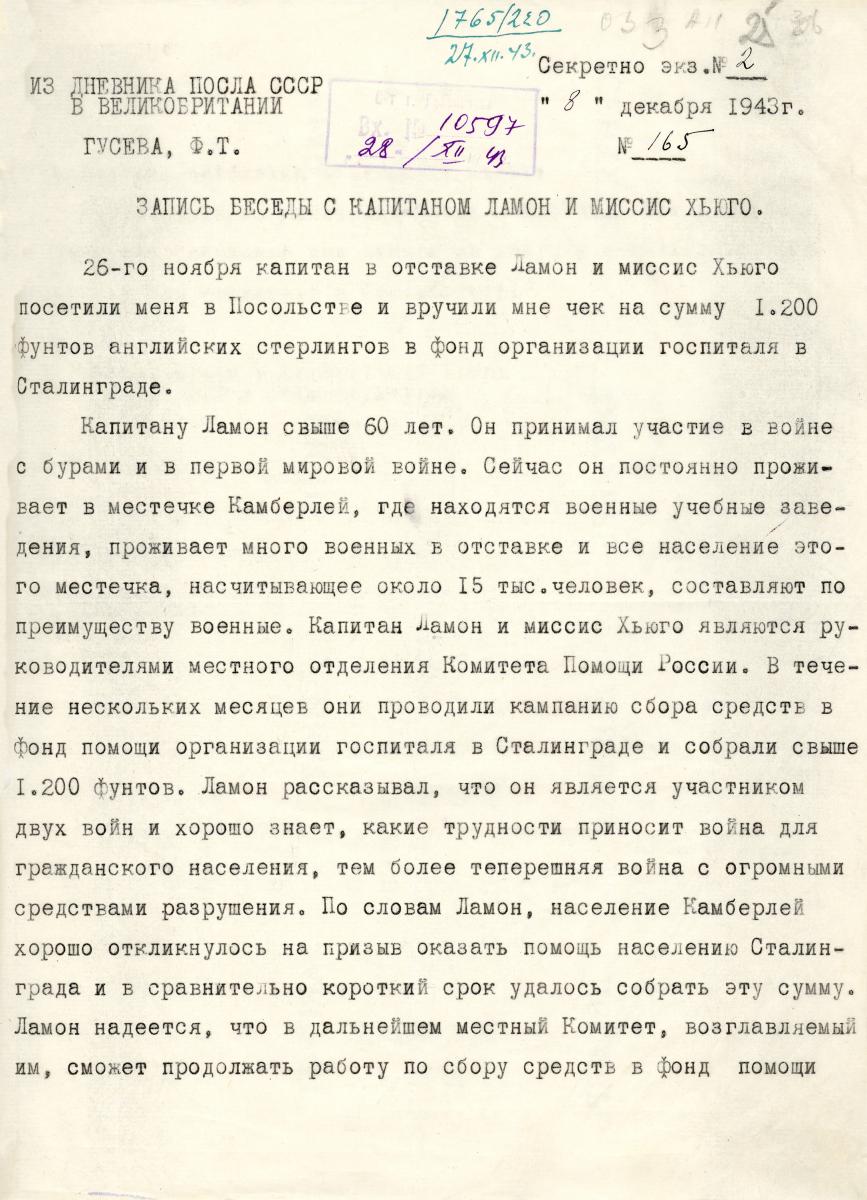
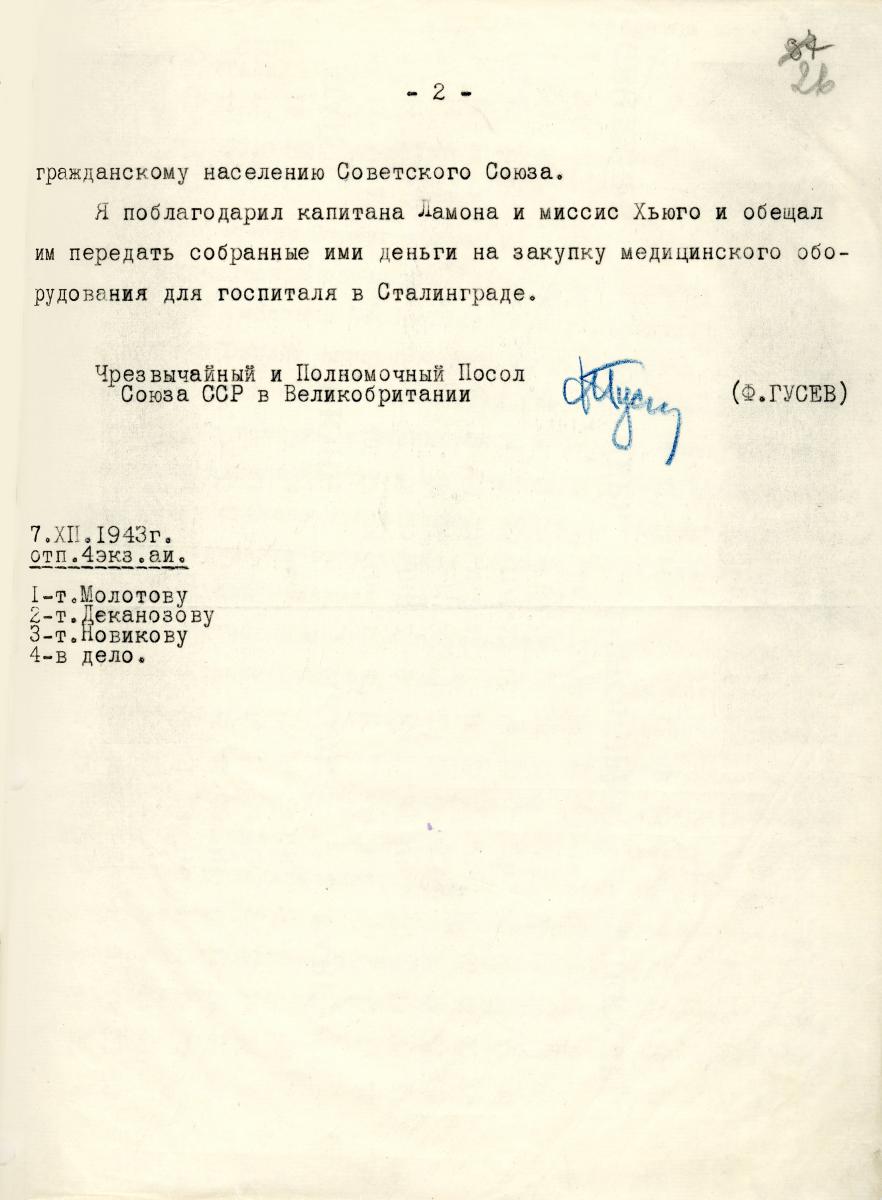
Запись беседы посла СССР в Великобритании Ф.Т.Гусева с руководителями отделения Комитета помощи России в графстве Камберлей капитаном Ламоном и миссис Хьюго, в ходе которой были переданы средства на закупку медицинского оборудования для госпиталя в Сталинграде.
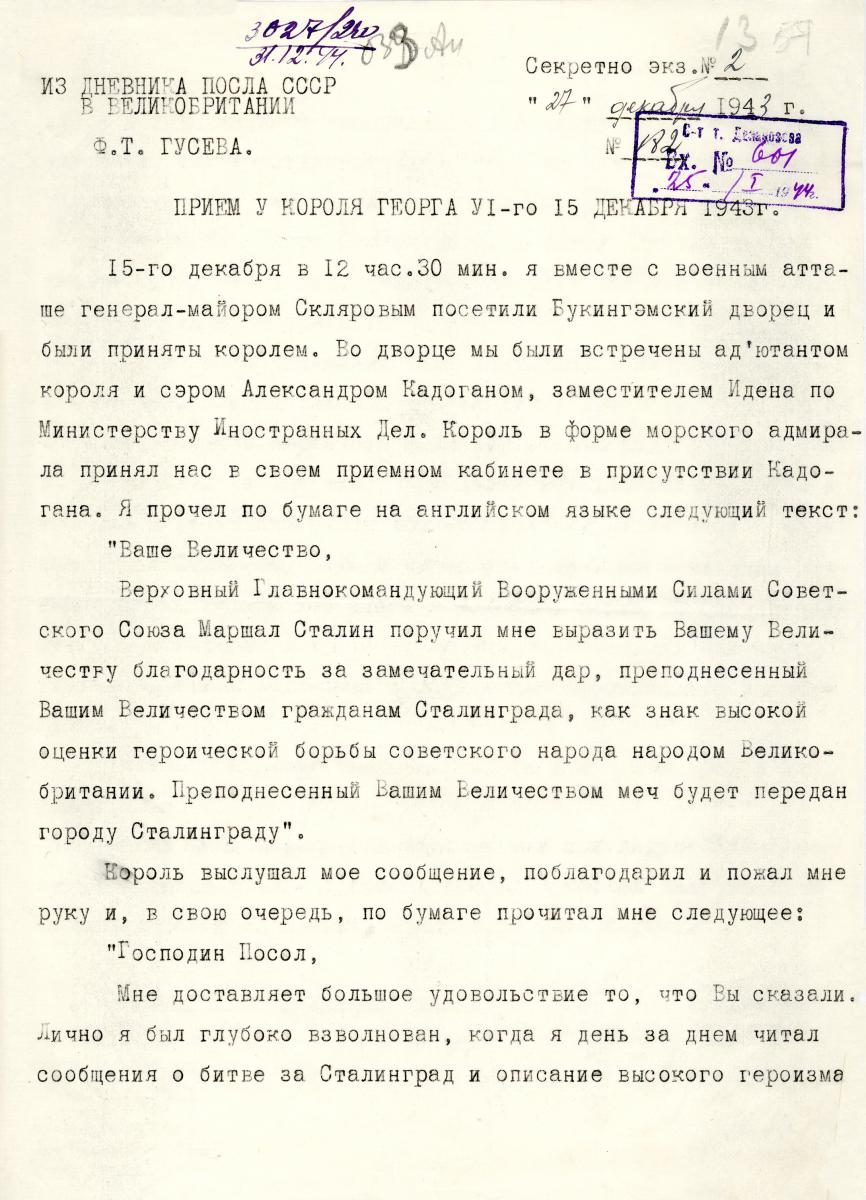
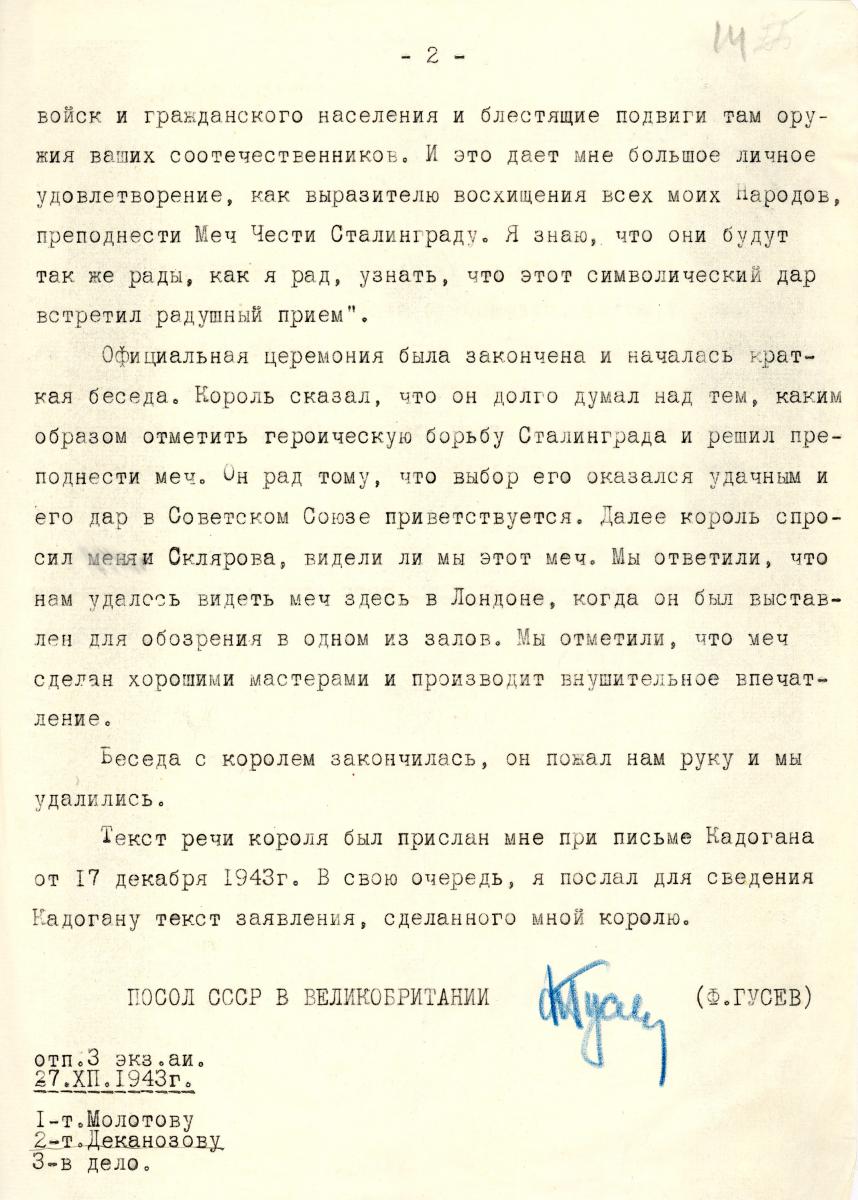
Из дневника посла СССР в Великобритании Ф.Т.Гусева о приеме у короля Георга VI по случаю официальной церемонии, посвященной передачи Почетного меча в дар гражданам Сталинграда в ознаменование разгрома немецко-фашистских захватчиков.


Меч Чести, подаренный королем Георгом VI
Нидерланды
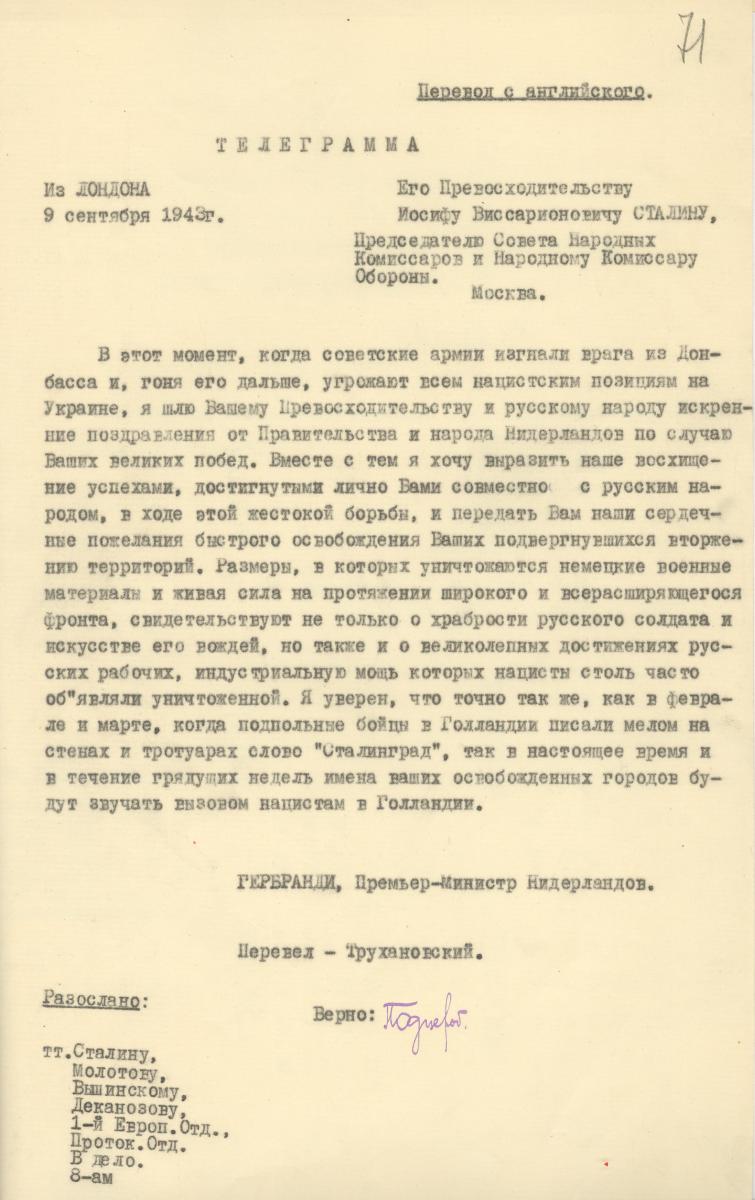
Поздравительная телеграмма из Лондона премьер-министра Нидерландов Питера С. Гербранди И.В.Сталину от имени правительства и народа Нидерландов по случаю великих побед русского народа (перевод с англ.яз.)
США
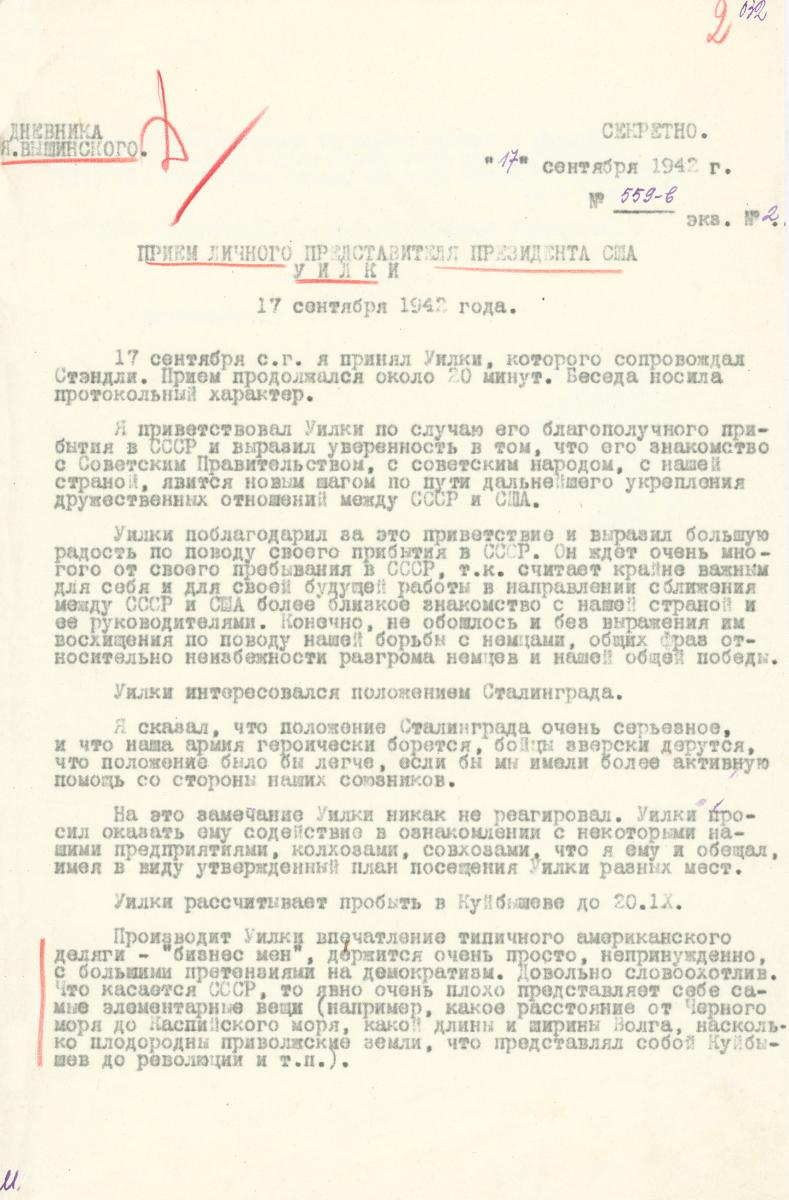
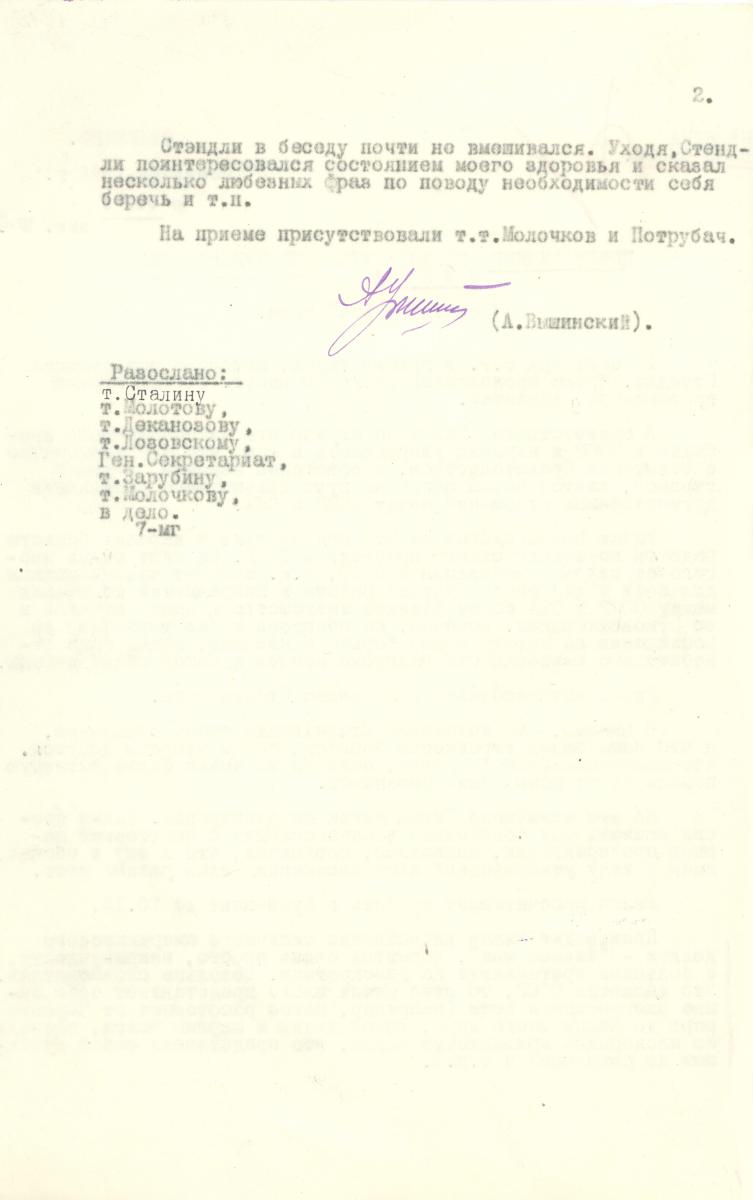
Запись беседы заместителя наркома иностранных дел СССР А.Я.Вышинского с личным представителем президента США Уэнделлом Л. Уилки
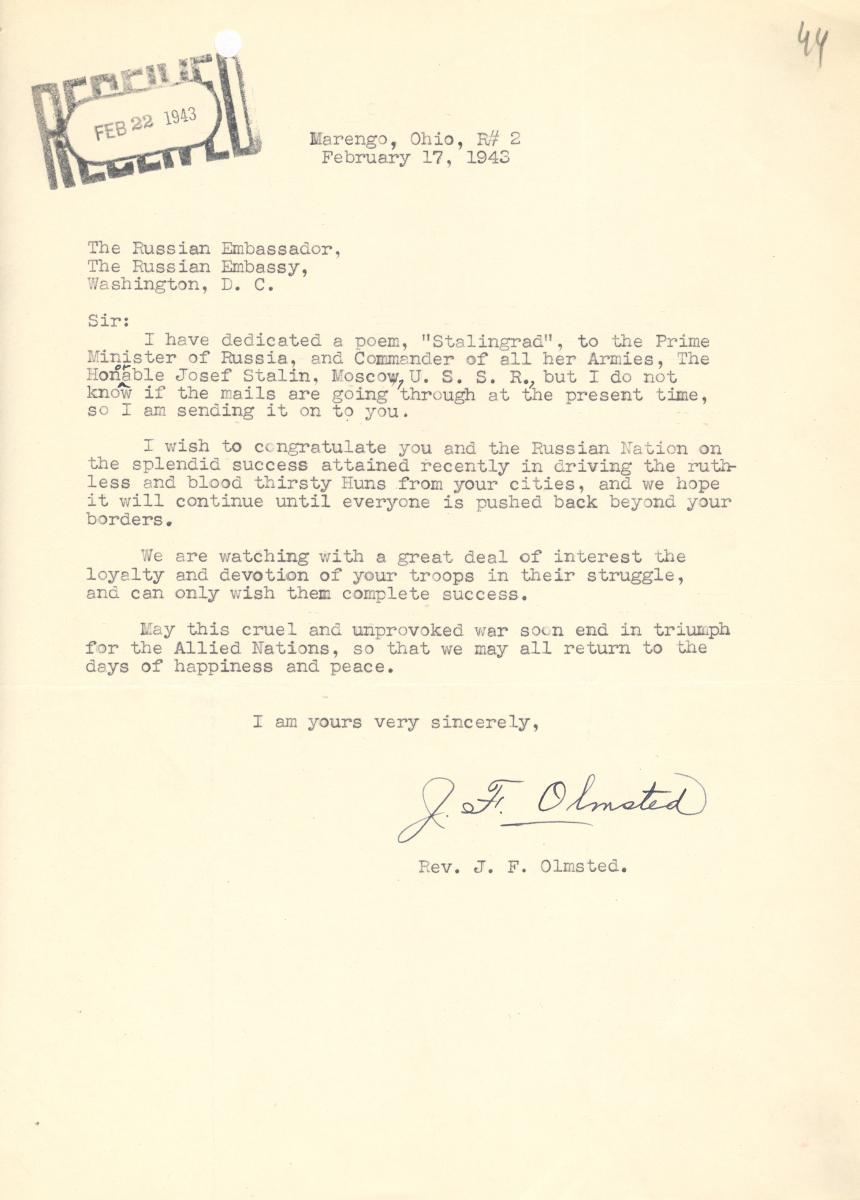
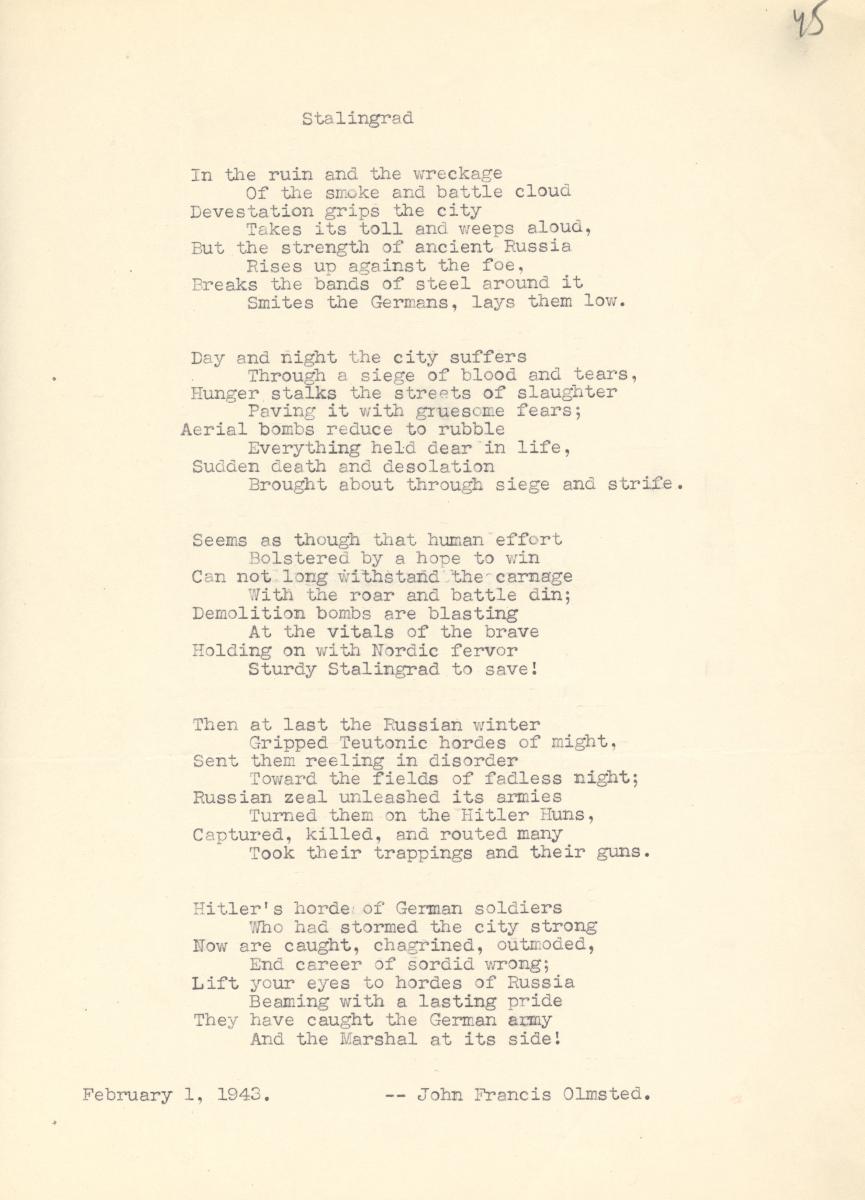
Стихотворение гражданина США Ф.Олмстеда "Сталинград", направленное им с письмом в адрес Посольства СССР в Вашингтоне

Поздравление главнокомандующего вооруженными силами США Франклина Д. Рузвельта Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами СССР И.В.Сталину с блестящей победой под Сталинградом и ответное письмо И.В.Сталина с благодарностью за поздравление (опубликованные в печати тексты)
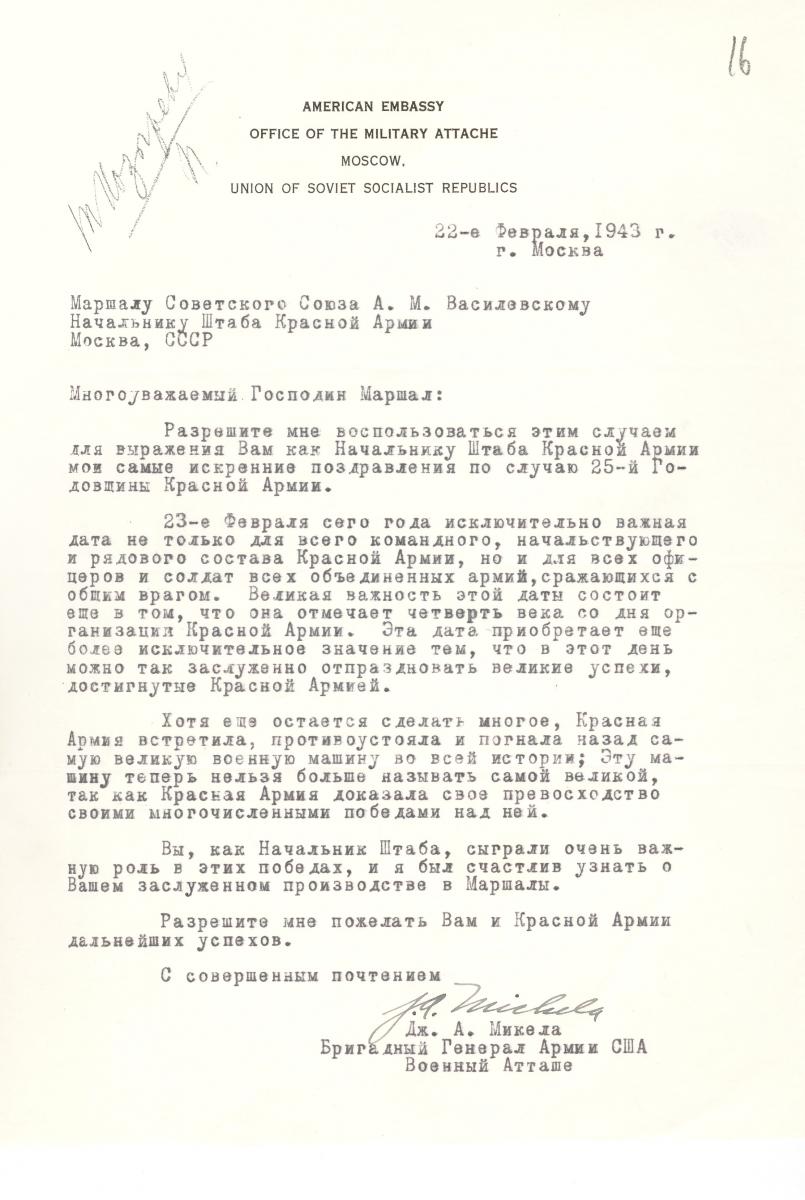
Поздравительное послание военного атташе Посольства США в Москве бригадного генерала Армии США Дж. А. Микелы на имя начальника Штаба Красной Армии – маршала Советского Союза А.М.Василевского по случаю 25-й годовщины Красной Армии (оригинал)
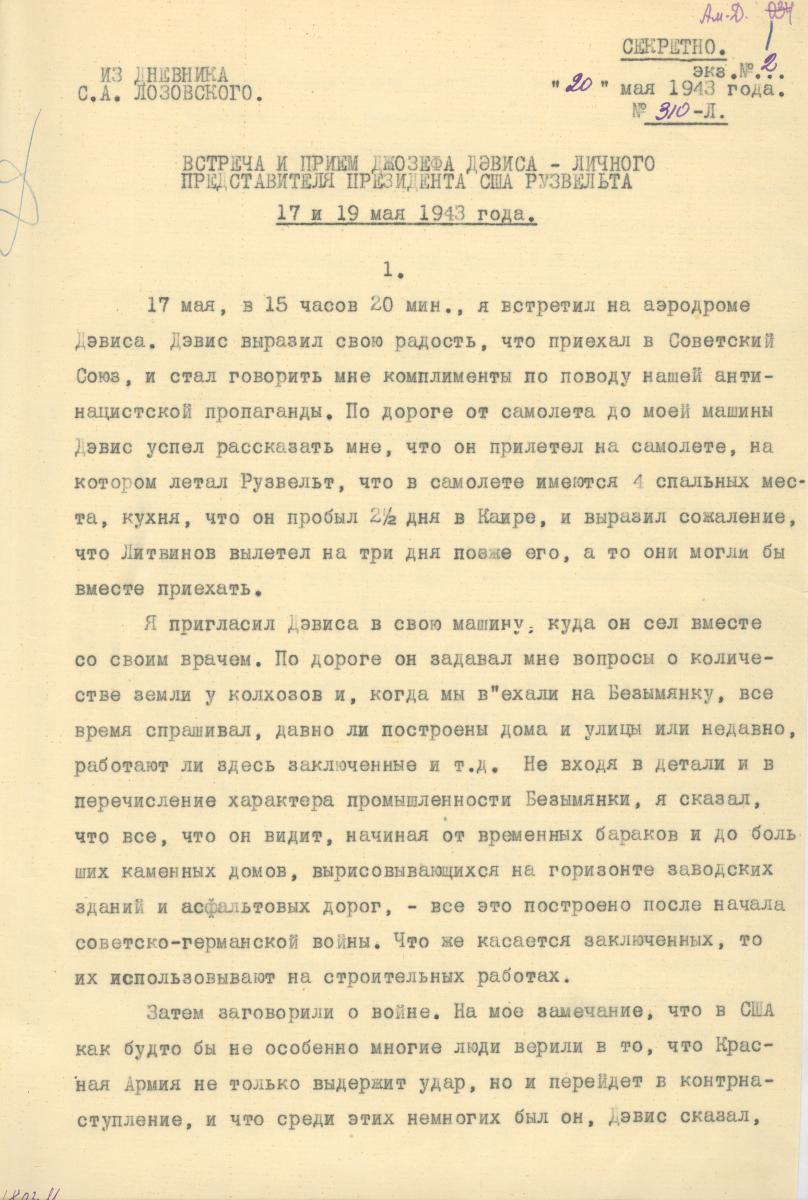
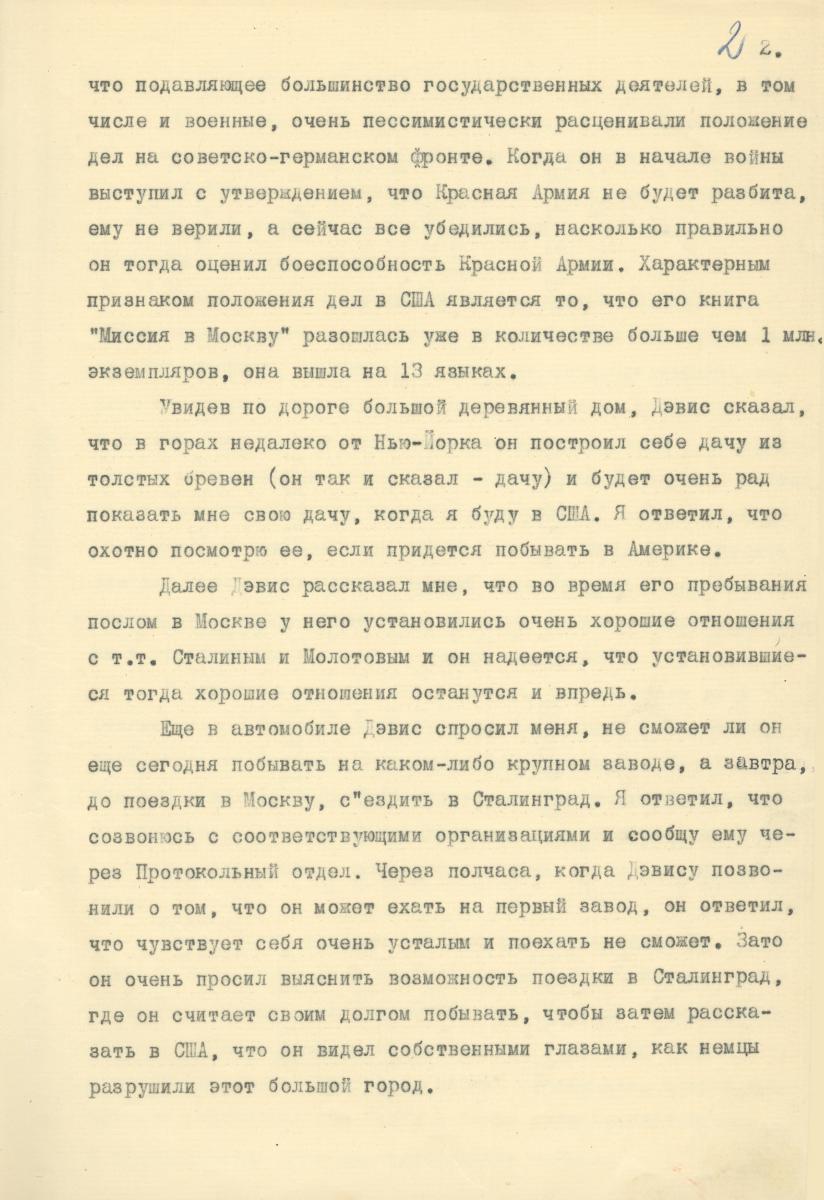
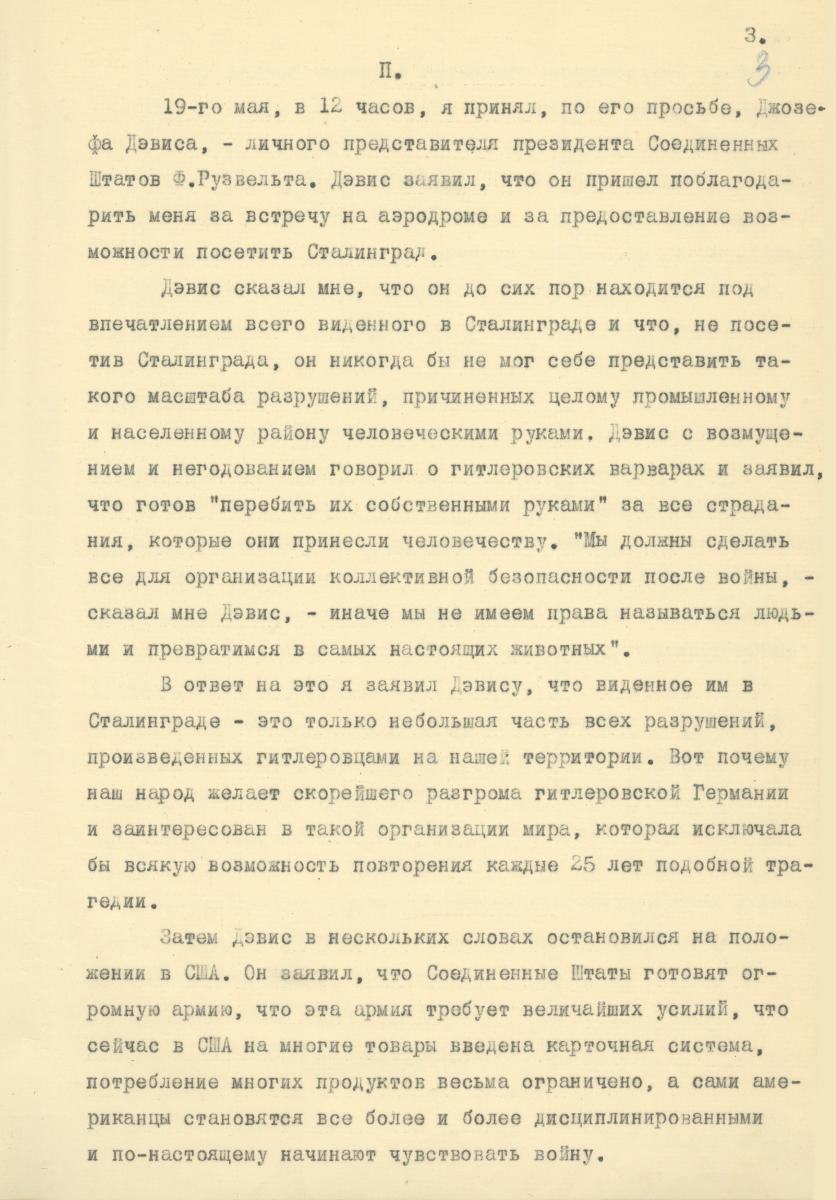
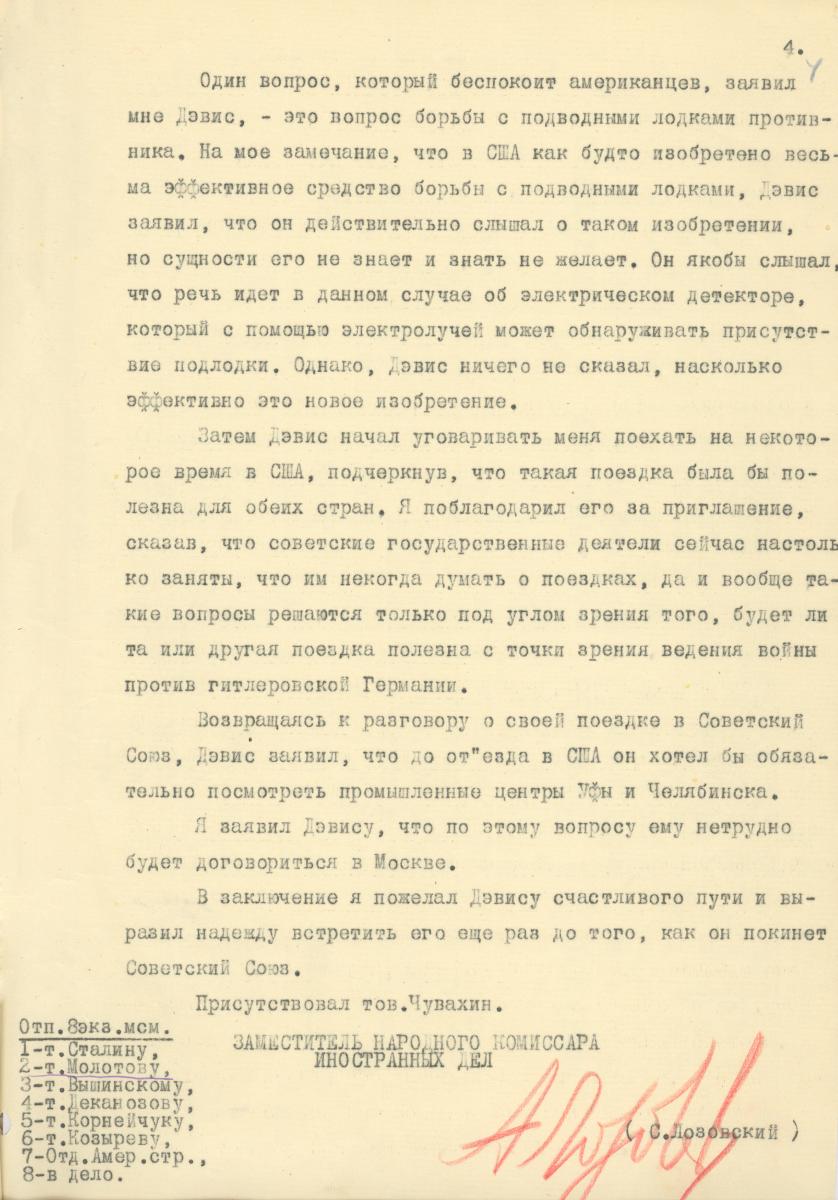
Запись беседы заместителя наркома иностранных дел СССР С.А.Лозовского с личным представителем президента США Джозефом Э. Дэвисом
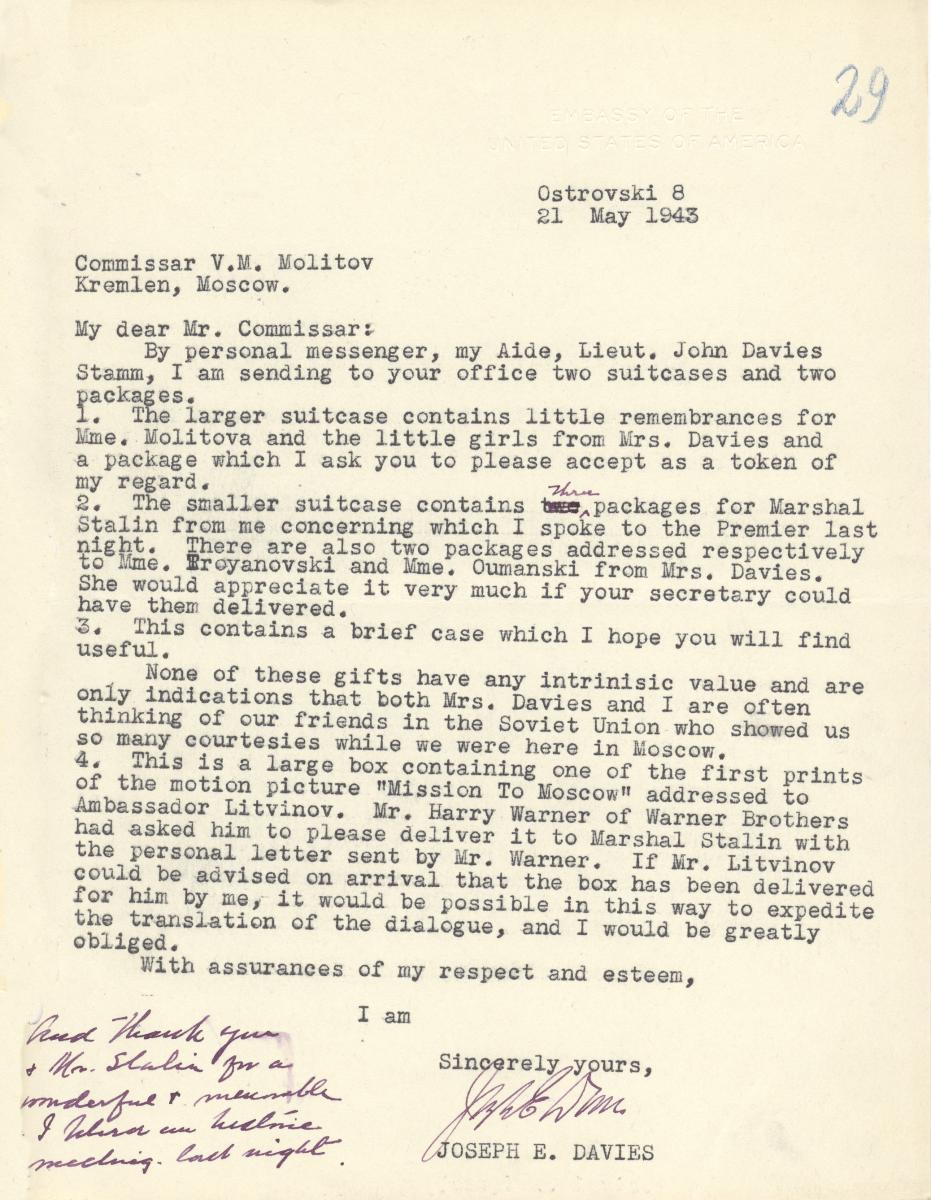
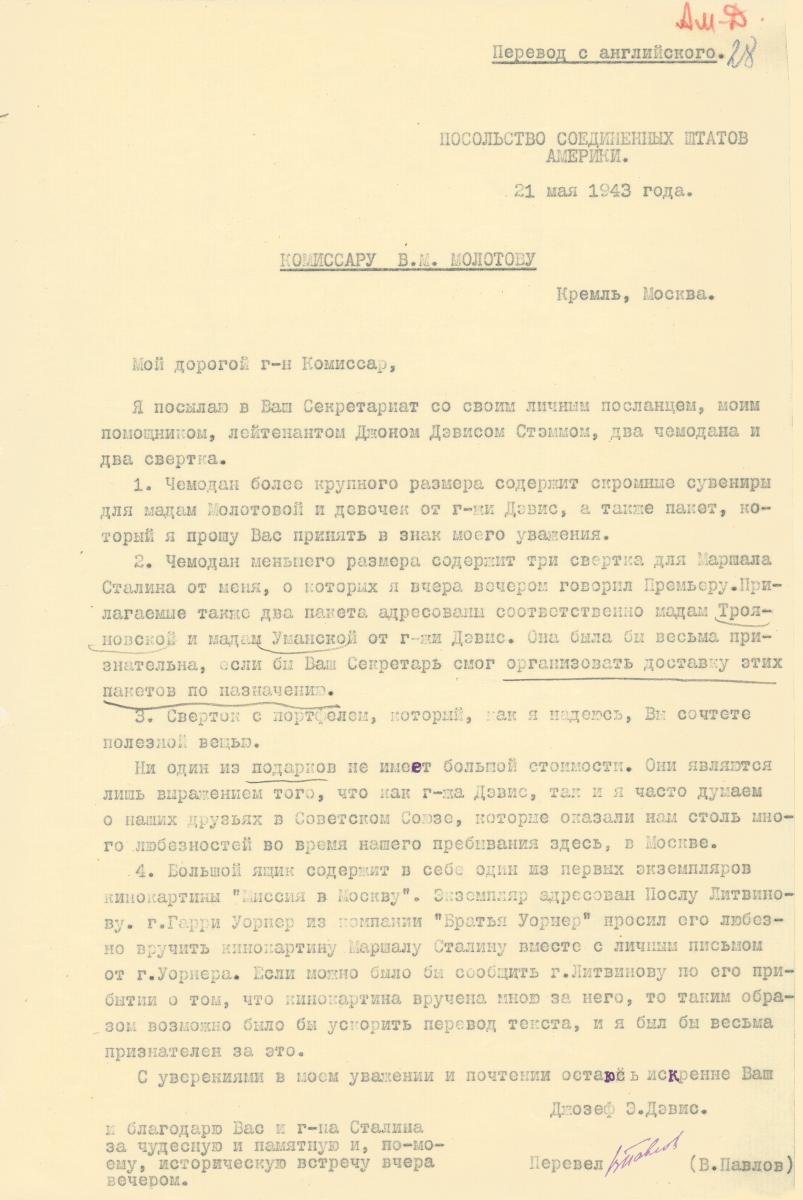
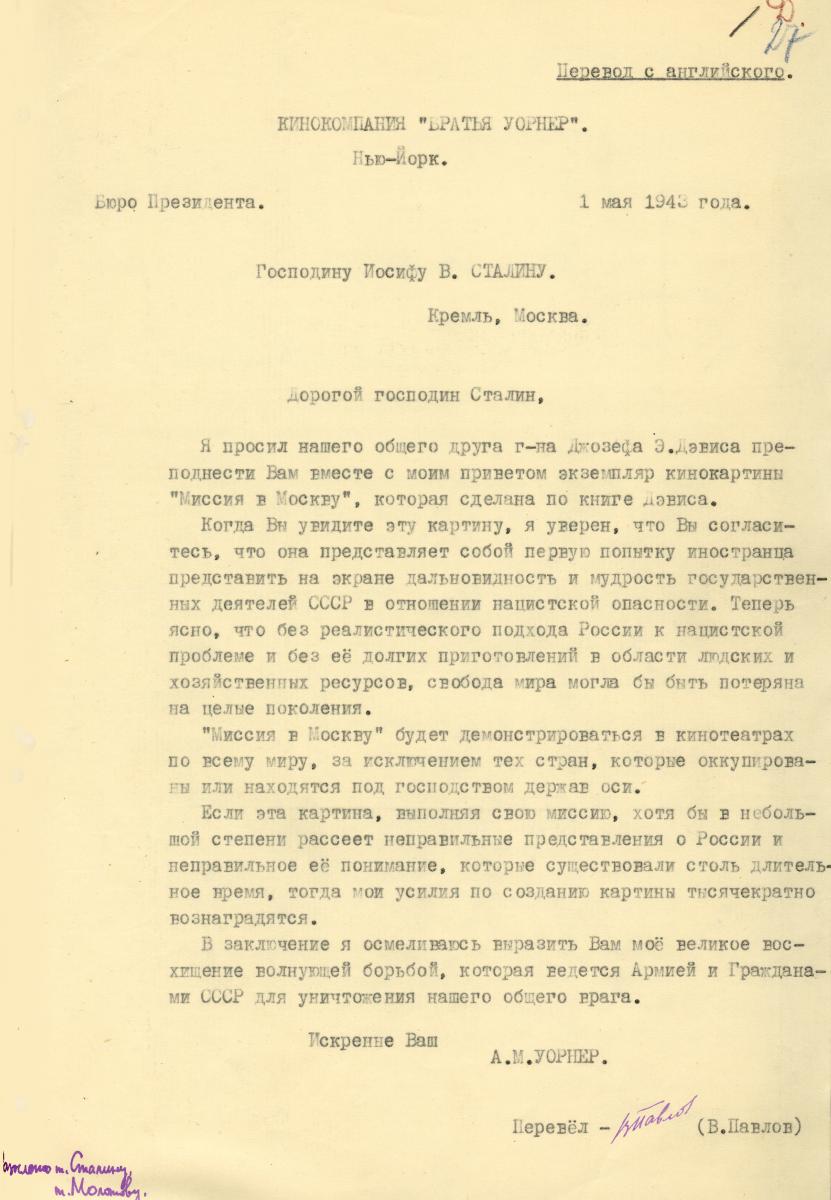
Послание Джозефа Э. Дэвиса наркому иностранных дел СССР В.М.Молотову с благодарностью за оказанный в Кремле прием и о вручении маршалу Сталину кинокартины «Миссия в Москву» кинокомпании «Братья Уорнер» вместе с личным письмом г-на А.М.Уорнера на имя И.В.Сталина, датированным 1 мая 1943 г. (оригинал на англ.яз., перевод на русск. яз, перевод личного письма на русск. яз.)
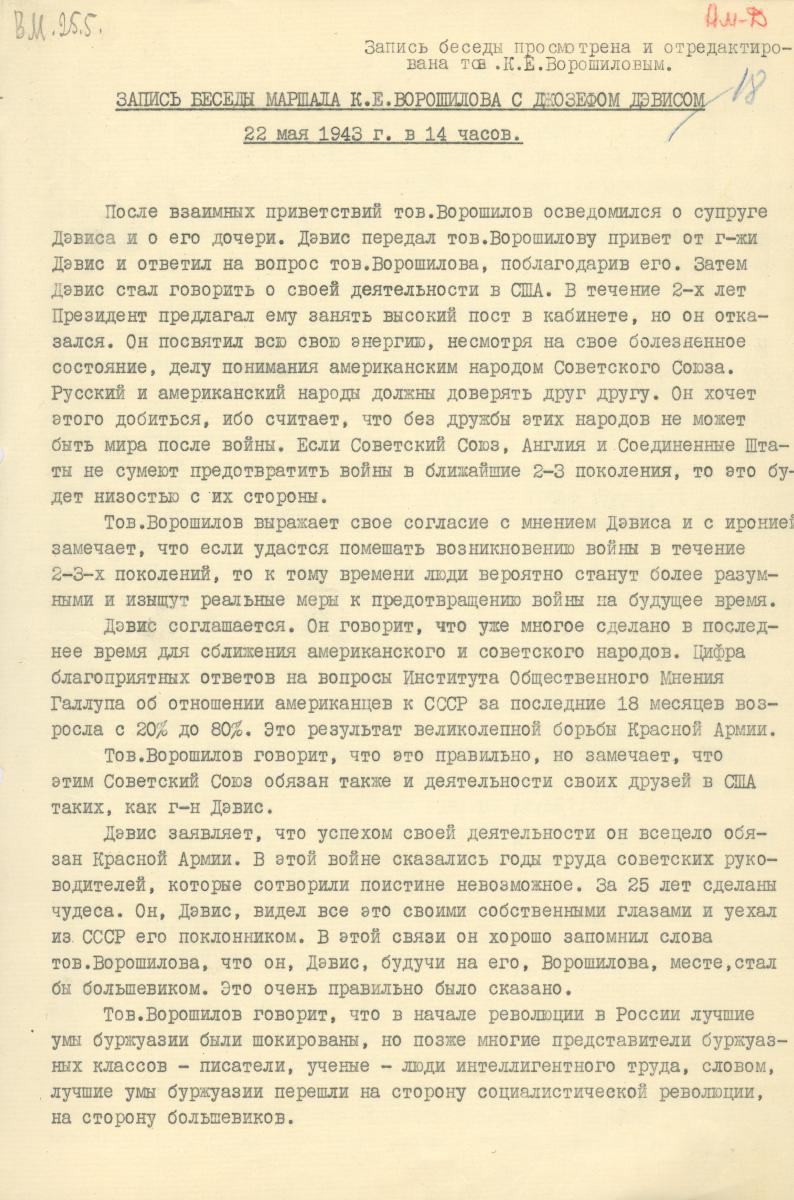
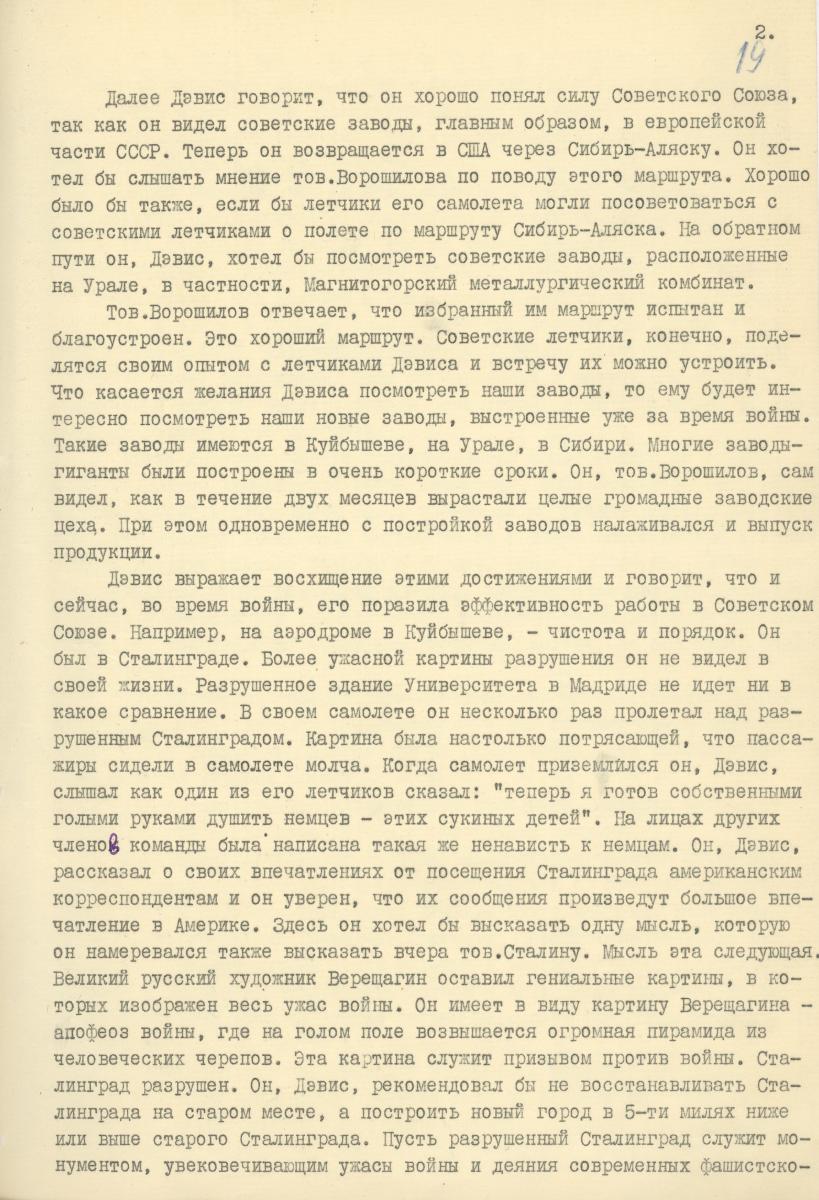
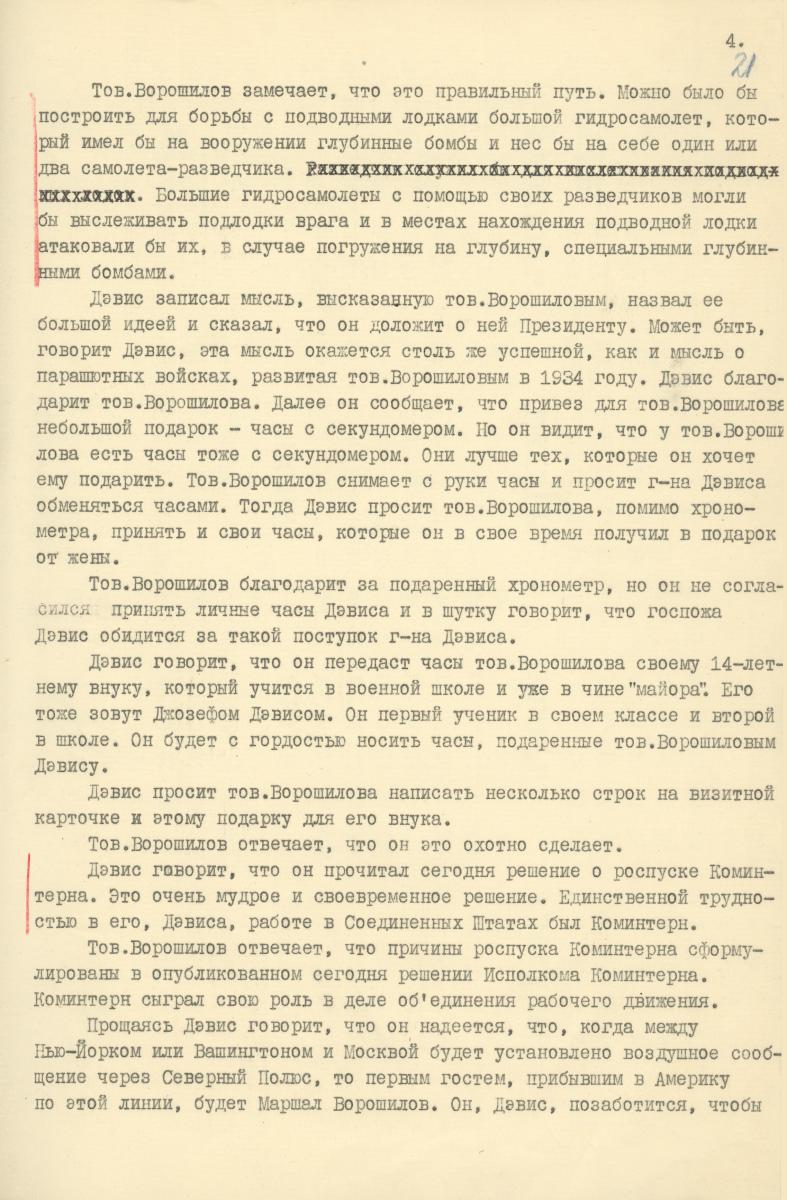
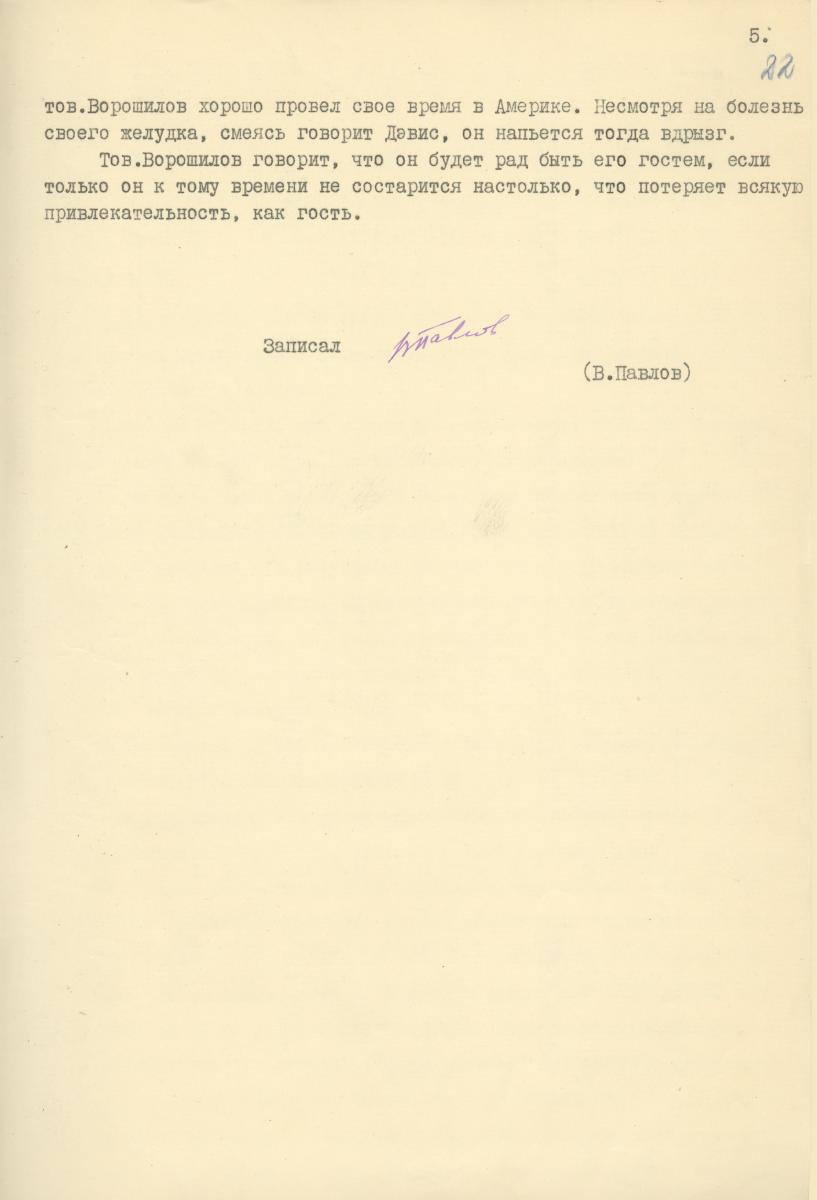
Запись беседы маршала Советского Союза К.Е.Ворошилова с Джозефом Э. Дэвисом

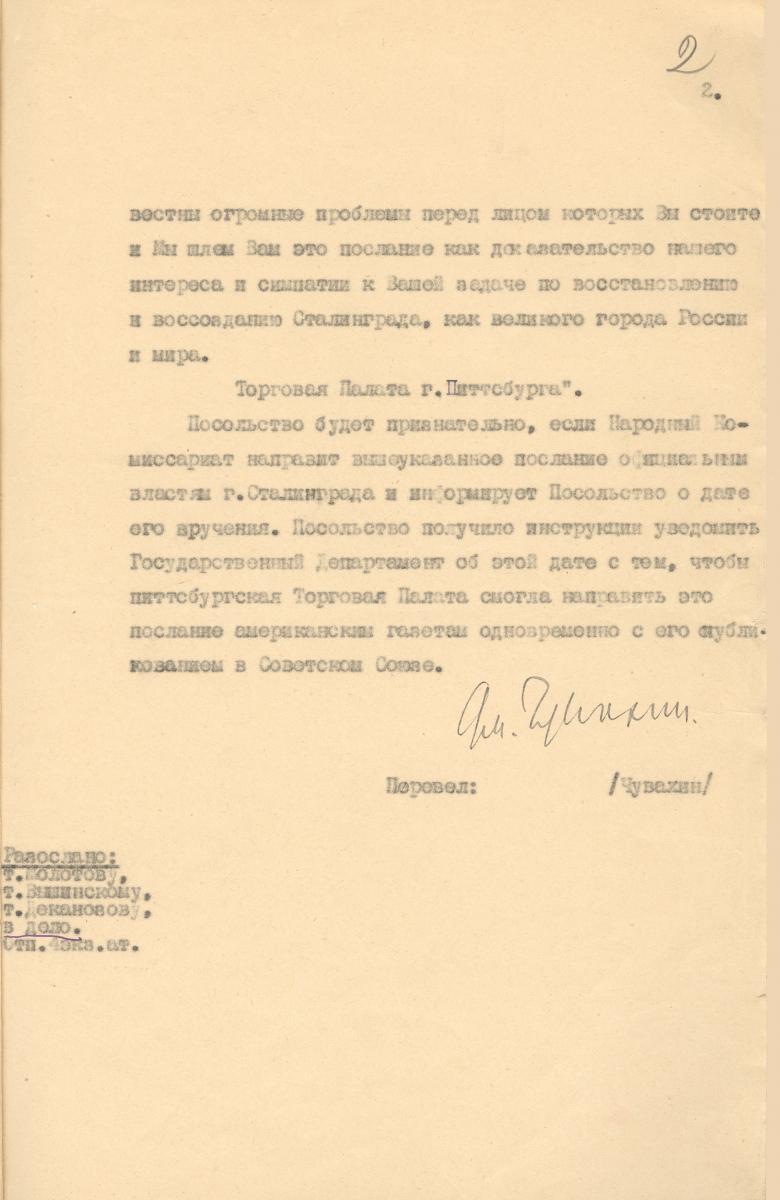
Нота Посольства США в НКИД СССР, содержащая послание Торговой палаты г.Питтсбурга официальным властям и населению Сталинграда.
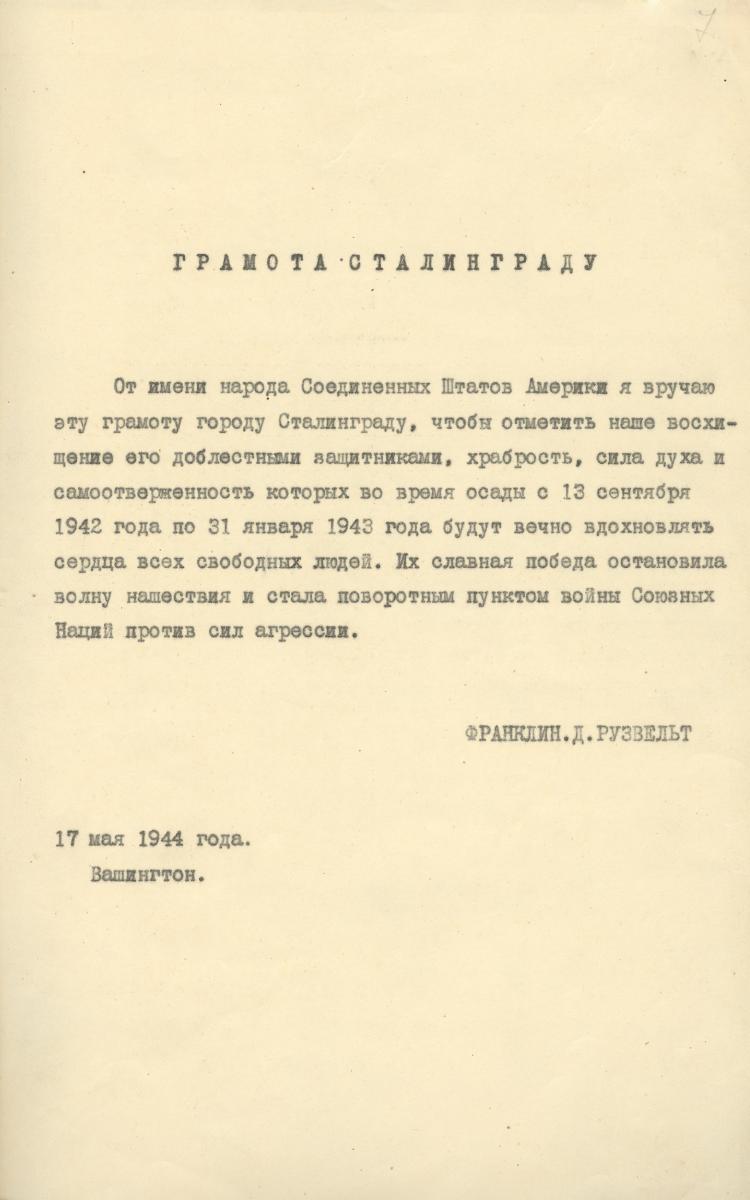
Текст грамоты городу Сталинграду от Франклина Д. Рузвельта
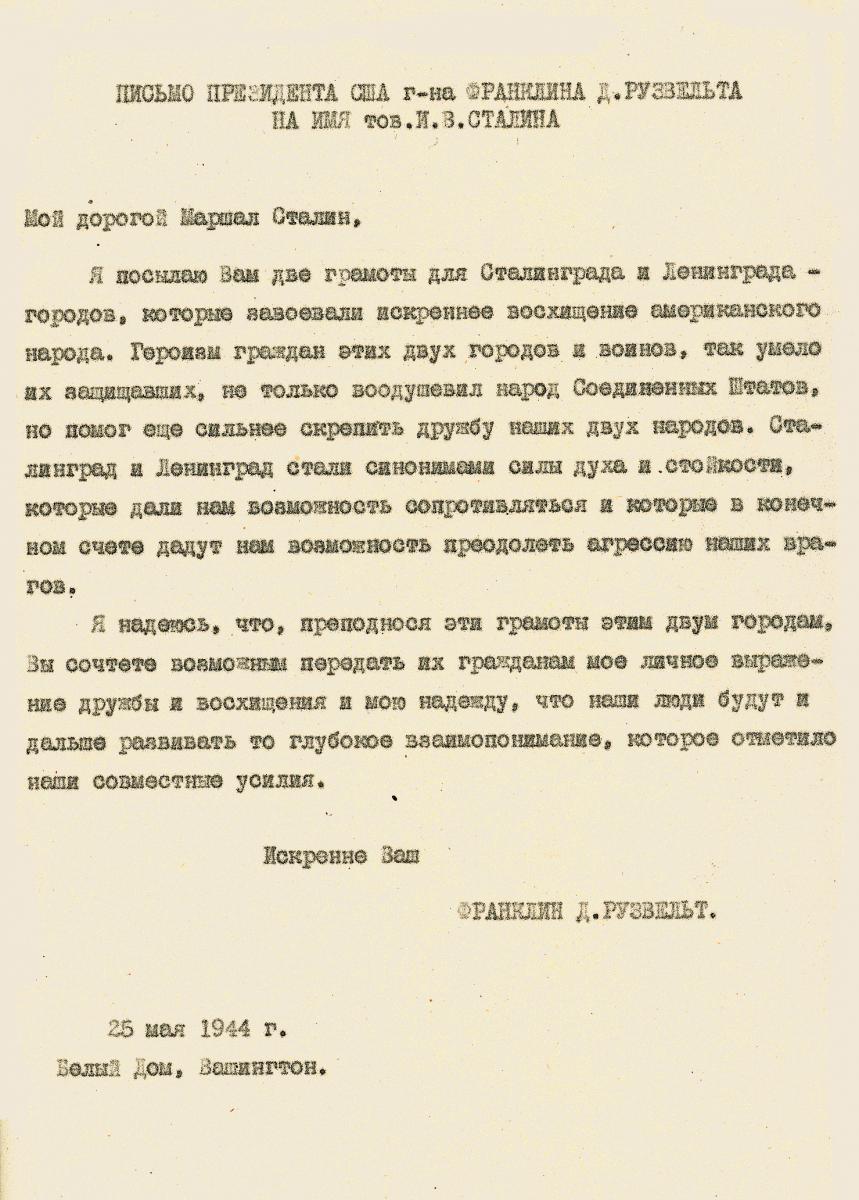
Письмо президента США Ф.Д.Рузвельта И.В. Сталину о направлении почетных грамот для городов Сталинграда и Ленинграда
Франция
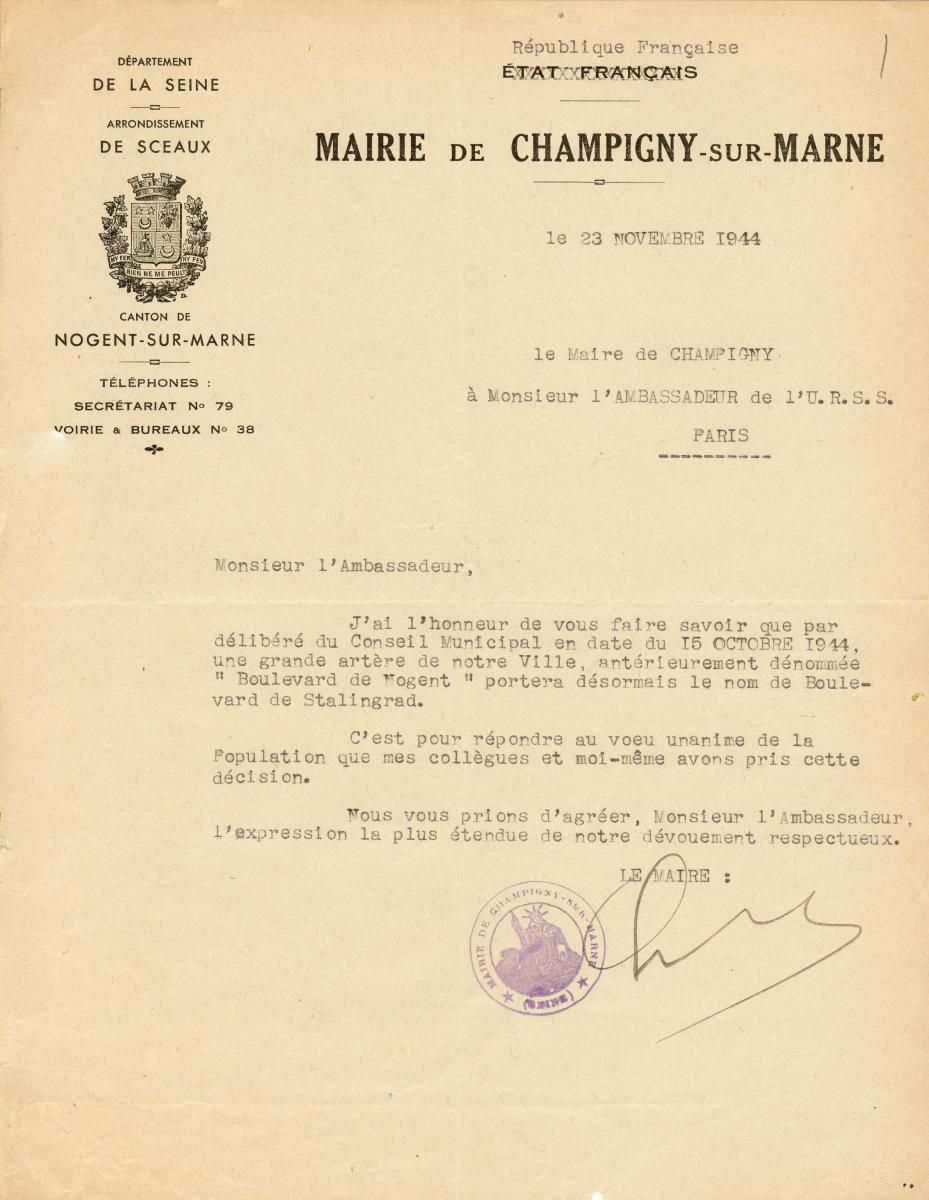
Письмо мэрии департамента Сены о решении муниципального Совета Франции переименовать бульвар Ножен в бульвар Сталинград
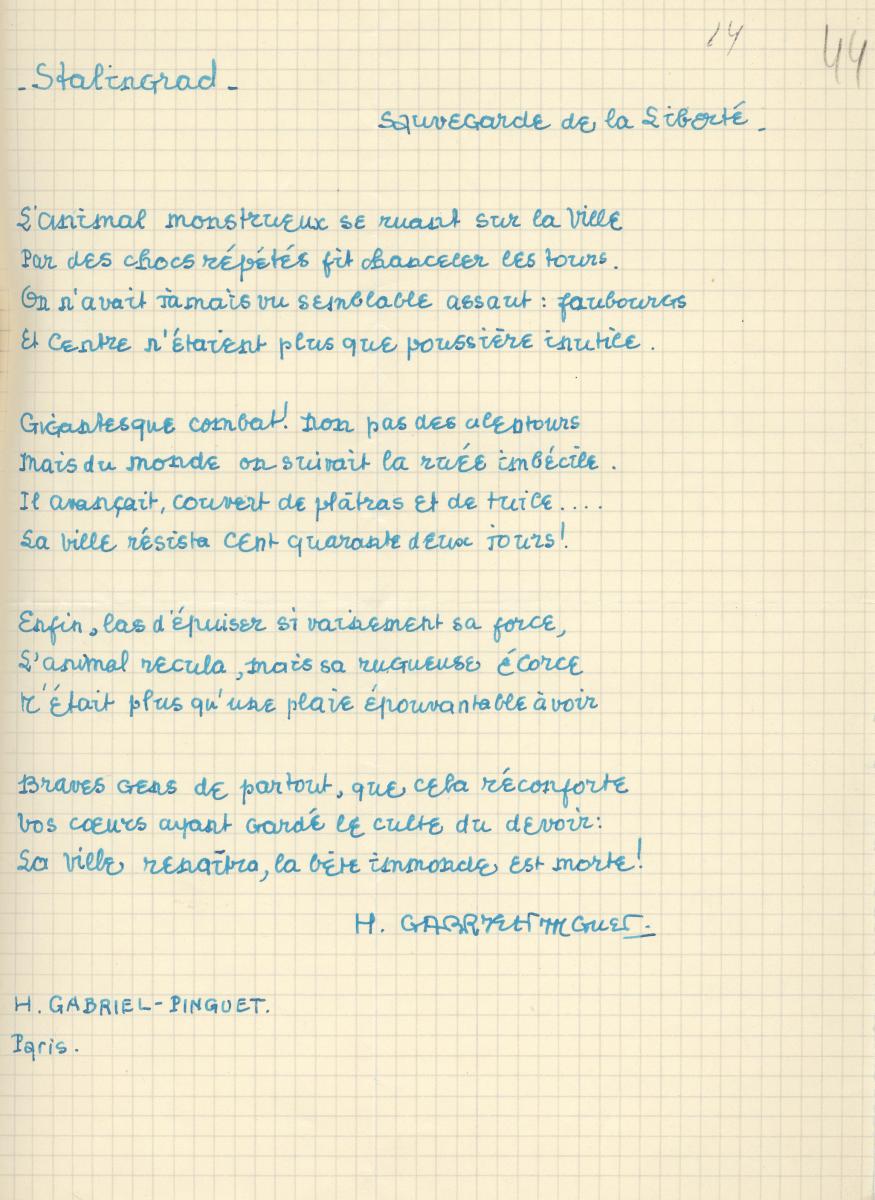
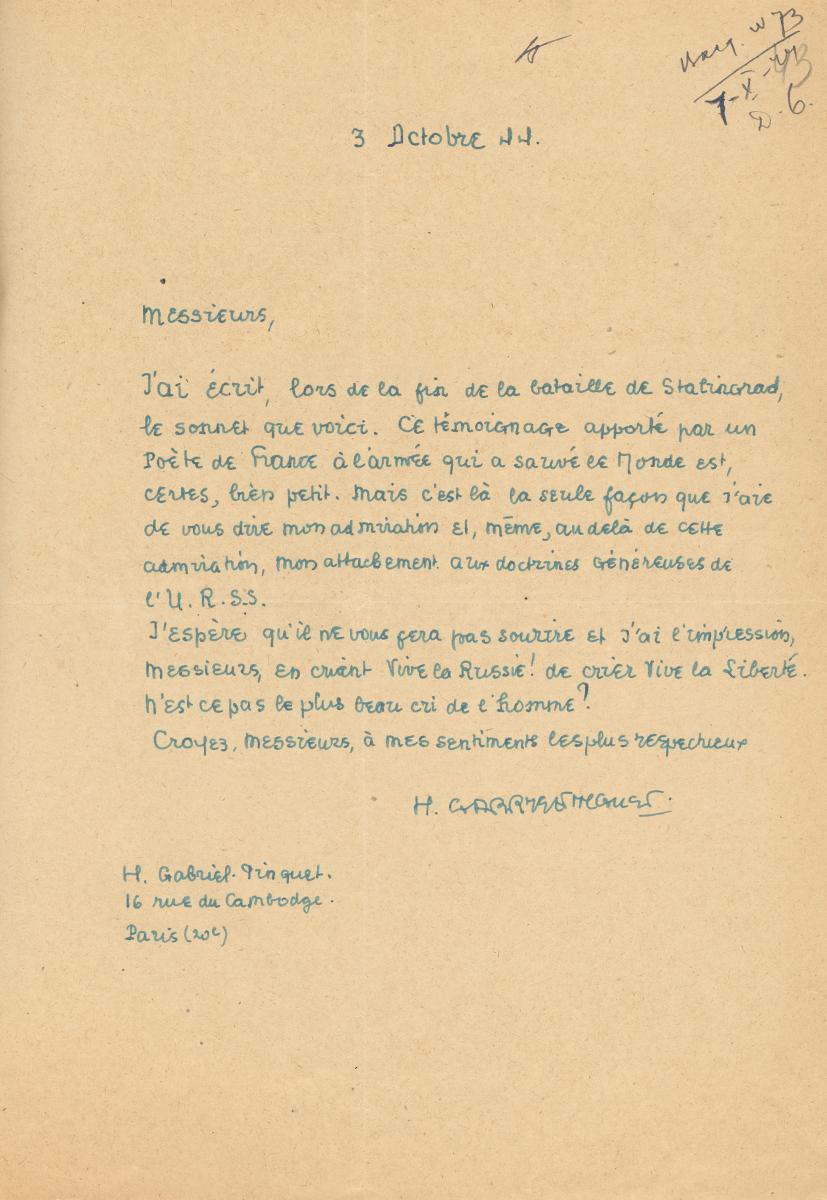
Стихотворение гражданина Франции Х.Габриэля-Пинчета "Сталинград", направленное им с письмом в адрес Полпредства СССР во Франции
Чехословакия
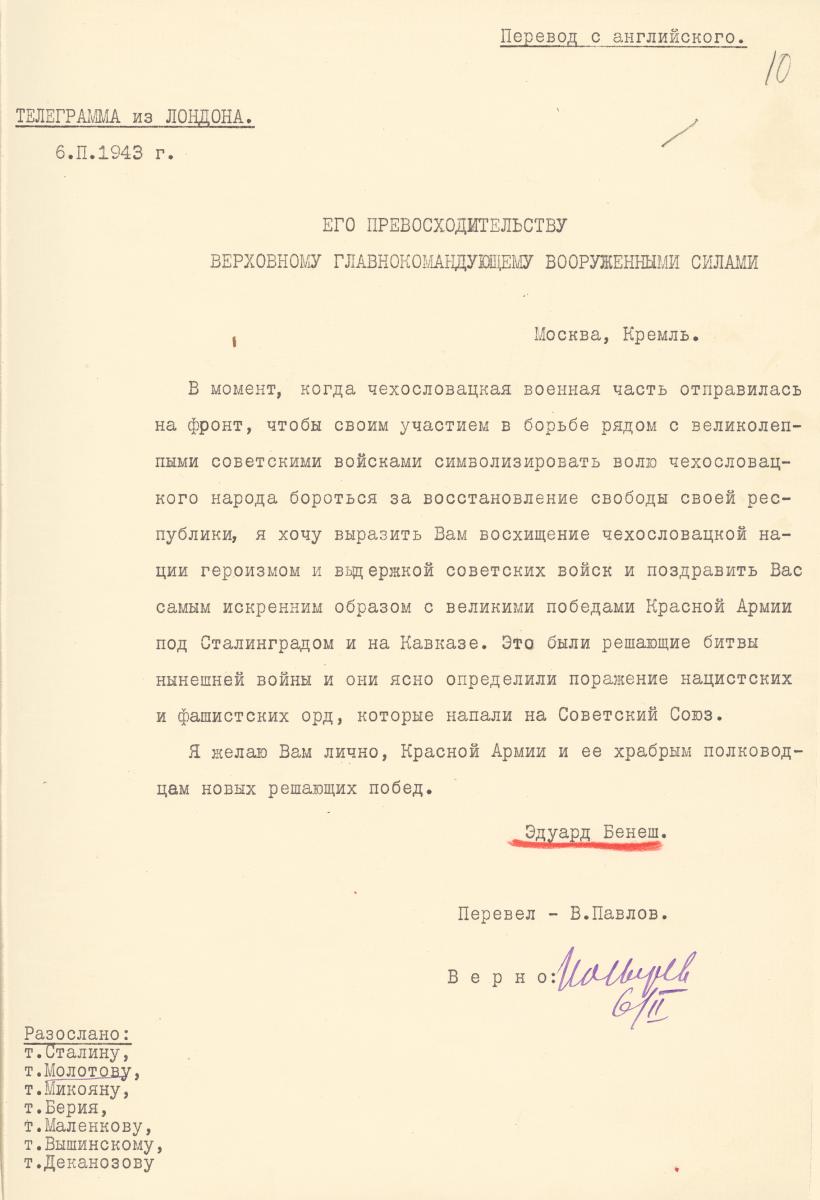
Поздравительная телеграмма из Лондона президента Чехословацкой Республики Эдуарда Бенеша И.В.Сталину в связи с великими победами Красной Армии под Сталинградом и на Кавказе (перевод с англ.яз.) и проект ответной благодарственной телеграммы от имени И.В.Сталина
- 2777 просмотров