Стражи неба
Стражи неба
- 388 просмотров
Стражи неба. Часть 6. Битва за Ленинград

В плане «Барбаросса» захват Ленинграда – колыбели Революции – занимал, как и захват Москвы, особое место.
Гитлер намеревался стереть город с лица земли и этим нанести непоправимый моральный удар всему Советскому народу, огромный ущерб экономике нашей страны и получить в результате существенный военно-политический выигрыш для себя и Германии в стратегическом плане.
8 июля 1941 г. состоялось совещание верховного главнокомандования вооружённых сил Германии (ОКВ). Генерал-полковник Ф. Гальдер отметил в своём дневнике после совещания:
 «Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землёй, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которые в противном случае мы будем кормить в течение зимы. Задачу уничтожения городов должна выполнить авиация».
«Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землёй, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которые в противном случае мы будем кормить в течение зимы. Задачу уничтожения городов должна выполнить авиация».
Для достижения этих целей была создана мощная группировка сил: группа армий «Север» (командующий – фельдмаршал фон Лееб) в составе двух полевых армий и 4-й танковой армии. В сумме это составило 29 дивизий численностью около 725 тыс. человек, свыше 13 тысяч орудий и минометов, около 1500 танков. С воздуха действовал 1-й Воздушный флот Германии, в состав которого входили только боевых самолетов 760 немецких и 307 финских.
Первые месяцы войны, июнь-июль и часть августа, немецкие войска продвигались вперед почти по 25 км в сутки. К концу августа, вследствие возросшего сопротивления наших частей, наступление замедлилось. Продвижение вперед уже не более 5 км в сутки.
 Противовоздушная оборона Ленинграда осуществлялась 2-м корпусом ПВО (командир – генерал Зашихин Г.С.). В его состав входили: шесть полков зенитной артиллерии среднего калибра (600 орудий калибра 85 мм), отдельный зенитно-артиллерийский дивизион среднего калибра, прикрывавший 8-ю ГЭС, зенитно-пулеметный полк (141 ЗПУ М-4 и 81 ЗПУ ДШК), зенитно-прожекторный полк (333 прожекторных станции и 114 звукоулавливателей), два полка (с июля 1941 года – три полка) аэростатов заграждения (около 300 постов), причем один отряд АЗ (31 пост) был размещен на баржах в Финском заливе.
Противовоздушная оборона Ленинграда осуществлялась 2-м корпусом ПВО (командир – генерал Зашихин Г.С.). В его состав входили: шесть полков зенитной артиллерии среднего калибра (600 орудий калибра 85 мм), отдельный зенитно-артиллерийский дивизион среднего калибра, прикрывавший 8-ю ГЭС, зенитно-пулеметный полк (141 ЗПУ М-4 и 81 ЗПУ ДШК), зенитно-прожекторный полк (333 прожекторных станции и 114 звукоулавливателей), два полка (с июля 1941 года – три полка) аэростатов заграждения (около 300 постов), причем один отряд АЗ (31 пост) был размещен на баржах в Финском заливе.
Боевой информацией о действиях воздушного (и наземного) противника силы и средства ПВО Ленинграда обеспечивал полк ВНОС, в составе которого к началу войны была, кроме других средств, и одна радиолокационная станция «РУС-2». Позже их количество было доведено до восьми, в связи с сокращением числа постов ВНОС.
Кроме указанных сил и средств, в составе зенитной артиллерии ПВО Ленинграда находились 91 орудие малого калибра (37 мм).
Из состава зенитно-артиллерийских полков среднего калибра один дивизион в количестве 5 батарей, как и отряд АЗ, были размещены на баржах в акватории Финского залива.
В состав системы ПВО Ленинграда входили также 3-я и 54-я истребительные авиационные дивизии, реорганизованные в июле 1941 года в 7-й истребительный авиационный корпус ПВО. Он насчитывал 9 истребительных авиационных полков. Однако, учитывая важность Ленинграда как государственного объекта, в оперативное подчинение 2-го корпуса ПВО были дополнительно выделены 5 истребительных полков из состава ВВС Ленинградского фронта. Таким образом, к началу активных боевых действий против авиации противника система ПВО города на Неве имела в своем составе 401 самолет и 411 подготовленных экипажей.
Группировка этих войск ПВО была организована по классической схеме – круговой, равнопрочной, с усилением основных направлений ожидаемых действий воздушного противника – северо-западного, западного и юго-западного. В этом отношении схема организации систем ПВО Ленинграда и Москвы были похожи друг на друга.
 Налеты на город и стратегические объекты фашистская авиация начала уже на второй день войны. Первая воздушная тревога городу была объявлена в 0 час. 41 мин. 23 июня 1941 года и длилась 41 минуту. В эту ночь две группы бомбардировщиков по 7…9 самолетов в каждой пытались прорваться к городу со стороны Карельского перешейка. Встреченные огнем зенитчиков в районе Горская, Сестрорецк, потеряв 5 машин, самолеты противника, развернувшись, ушли.
Налеты на город и стратегические объекты фашистская авиация начала уже на второй день войны. Первая воздушная тревога городу была объявлена в 0 час. 41 мин. 23 июня 1941 года и длилась 41 минуту. В эту ночь две группы бомбардировщиков по 7…9 самолетов в каждой пытались прорваться к городу со стороны Карельского перешейка. Встреченные огнем зенитчиков в районе Горская, Сестрорецк, потеряв 5 машин, самолеты противника, развернувшись, ушли.
Таким образом, в границах Северной зоны ПВО первыми в бой вступили соединения и части ПВО Ленинграда. В июле-августе они отразили 17 налетов, в которых участвовало 1614 самолетов. К городу прорвалось только 28 бомбардировщиков.
В ночное время над городом стояла стальная завеса тросов АЗ, поэтому на малых высотах экипажи немецкой авиации, как и над Москвой, прорываться к городу не решались. Налеты на фронтовой город велись почти ежедневно, особенно в 1941…1942 году, реже – в 1943 году. Прорываясь на высоте 5 км и выше над городом, немцы с ожесточением сбрасывали фугасные и зажигательные бомбы.
В первой половине июля 1941 г. немецкие войска вышли на дальние подступы к Ленинграду, поэтому для поддержки наших войск и их противотанковой обороны из состава войск ПВО города было выделено 100 орудий, в августе – еще 60, а в каждом зенитно-артиллерийском полку были сформированы нештатные дивизионы, которые вошли в состав трех участков противотанковой обороны Южного укрепрайона. Здесь мы видим также аналогичную московской зоне тактику усиления противотанковой обороны зенитными артиллерийскими и пулеметными подразделениями.
Характер боевых действий и немецкой авиации, и наших средств ПВО в Ленинграде в значительной степени напоминают боевые действия в Московской зоне ПВО. Со стороны немцев: использование фугасных и зажигательных бомб; ночные и дневные массированные налеты, изматывающие круглосуточные налеты одиночными и небольшими группами самолетов и т.д. В темное время суток сбрасывались на парашютах осветительные бомбы. Часто сбрасывали и листовки с предложениями о сдаче города, с призывом уничтожать командиров и политработников, коммунистов и евреев. Построение войск Ленинградской зоны ПВО также напоминает Москву: световые прожекторные поля, полосы поставленных в шахматном порядке аэростатов заграждения, и при этом согласованные по пространству и времени действия истребительной авиации и зенитной артиллерии.
 8 сентября 1941 года враг совсем близко подошел к городу и замкнул кольцо блокады. В этих условиях силы и средства ПВО стали решать задачи обороны объектов города и войск Ленинградского фронта в единой группировке, в том числе с силами ПВО Краснознаменного Балтийского флота.
8 сентября 1941 года враг совсем близко подошел к городу и замкнул кольцо блокады. В этих условиях силы и средства ПВО стали решать задачи обороны объектов города и войск Ленинградского фронта в единой группировке, в том числе с силами ПВО Краснознаменного Балтийского флота.
Кроме того, из-за сокращения числа постов и световых прожекторных полей, за счет личного состава полков ВНОС и прожекторного полка была сформирована 10-я стрелковая бригада, которая сыграла большую роль в боях, предотвративших прорыв немецких войск к городу в ожесточенном сражении, длившемся с 12 по 25 сентября.
Потеряв в этих боях около 170 тыс. человек личного состава, фашисты вынуждены были перейти к обороне. Потерпев такое поражение в открытом бою, гитлеровцы решили сломить стойкость ленинградцев и их защитников голодом, холодом, бомбардировками, а позже – и артиллерийским обстрелами города. Так, за сентябрь в налетах участвовало 2712 самолетов, к городу прорвались 675, уничтожено 309 и подбито 29 самолетов. А до декабря 1941 г. противник произвел 108 налетов, в ходе которых к Ленинграду прорвались 1499 самолетов – 79% от общего числа самолетов, бывших над городом за всю Великую Отечественную войну.
Это были самые тяжелые для ленинградцев налеты, принесшие для жителей города наибольшее количество жертв. На эти четыре месяца (сентябрь – декабрь 1941 г.) приходится 82% жертв, понесенных населением от воздушных налетов за весь период Ленинградской битвы. В один из налетов тяжелая немецкая фугасная бомба разбила госпиталь, в огне и под завалами погибло 600 раненых. По городу был открыт огонь из осадных орудий крупного калибра. Такой огонь велся регулярно, по Ленинграду было выпущено 5366 снарядов крупного калибра.
 За годы войны войска Ленинградской армии ПВО уничтожили 1561 вражеский самолет, в том числе ИА ПВО уничтожила 1044 самолета, зенитная артиллерия – 479 самолетов, зенитные пулеметы – 30 самолетов, посты ВНОС – 8 самолетов (ружейным огнем). Уничтожено 99 танков, 183 артиллерийские батареи, 85 минометных рот, 685 автомашин и много другой техники. Истреблены свыше трех полков пехоты противника.
За годы войны войска Ленинградской армии ПВО уничтожили 1561 вражеский самолет, в том числе ИА ПВО уничтожила 1044 самолета, зенитная артиллерия – 479 самолетов, зенитные пулеметы – 30 самолетов, посты ВНОС – 8 самолетов (ружейным огнем). Уничтожено 99 танков, 183 артиллерийские батареи, 85 минометных рот, 685 автомашин и много другой техники. Истреблены свыше трех полков пехоты противника.
Часто возникает вопрос, а были ли какие-либо особенности действий немецкой авиации в Ленинградской зоне по сравнению с тем, как они действовали над Москвой? Назовем только особенности применения АЗ, которые в Ленинграде использовались нашим командованием ПВО весьма изобретательно и тактически грамотно. Например, поднимали аэростаты на высоту до 6 км (конечно, только некоторые, специально оборудованные опытные образцы). При этом в штаб докладывали об этом открытым текстом по радио. Немцы, узнав о таком новшестве, поднимали самолеты на еще большую высоту или отказывались от отдельных налетов вообще. Летчики Люфтваффе устраивали охоту на АЗ, пытались расстреливать их с воздуха и с земли, применяли баржи с диверсантами против постов аэростатов, расставленных в Финском заливе на баржах. Можно привести много других примеров довольно хитрых и изобретательных действий немецкой авиации. Однако все эти попытки были сорваны умелыми и адекватными действиями воинов ПВО Ленинграда. Баржи с диверсантами освещались прожекторами с берега, расстреливались орудийным огнем зенитчиками и ружейно-пулеметным огнем самих аэростатчиков. В воздухе самолеты врага уничтожались нашими истребителями, поднятыми по данным РЛС «РУС-2».
Характер действий ленинградцев, участвовавших в отрядах местной ПВО и других службах города, примерно такие же, как и в Москве, но им было вдвойне тяжело (голод и холод зимой 1941 и 1942 года). Тем не менее, они стойко и героически выдержали эти тяжкие испытания.
Ленинградская поэтесса Ольга Бергольц, прошедшая с ленинградцами все 900 дней блокады, так писала в своем стихотворении «Февральский дневник» (1942 год):
 Но мы стояли на высоких крышах,
Но мы стояли на высоких крышах,
с закинутою к небу головой,
Не покидали хрупких наших вышек,
лопату сжав немеющей рукой.
В этот период войны особенно можно выделить операцию по прикрытию от ударов с воздуха сухопутно-водной трассы от Ленинграда через Осиновец, Новую Ладогу, Волхов, Тихвин и далее на Череповец.
Все знают, что смертельно тяжелой для ленинградцев была первая блокадная зима.
В январе 1942 года ежедневно умирало от голода и холода до 4-х тысяч жителей. Нормы выдачи хлеба были снижены до минимума. Об этих трагических событиях написано очень много и мы не будем подробно об этом рассказывать, только некоторые характерные штрихи.
В условиях блокады перевозка грузов и эвакуация населения могли производиться только через Ладожское озеро. Эту дорогу ленинградцы назвали «Дорогой жизни».
До становления льда на озере все перевозки были возложены на Ладожскую военную флотилию. Налеты на суда и береговые базы начались в октябре 1941 года – 58 налетов в составе 290 самолетов. Ранняя зима уже в начале ноября сковала озеро льдом, что сократило и ухудшило снабжение блокадного Ленинграда. 19 ноября решением Военного совета фронта была поставлена задача – открыть по озеру ледяную дорогу. 20 ноября проведена геодезическая разведка и по льду Ладожского озера провезены по выбранной трассе первые грузы.
 25 ноября дорога была открыта и по ней на машинах-полуторках (знаменитые ГАЗ-АА) в город доставлено 370 тонн продовольствия. В дальнейшем ежедневный подвоз доходил до 4,5 тысяч тонн.
25 ноября дорога была открыта и по ней на машинах-полуторках (знаменитые ГАЗ-АА) в город доставлено 370 тонн продовольствия. В дальнейшем ежедневный подвоз доходил до 4,5 тысяч тонн.
Нашей истребительной авиацией в условиях численного превосходства противника в самолетах было трудно отразить все его удары. Требовалось организовать прикрытие дороги зенитными средствами, но опыта установки зенитных орудий на льду не было. Специальные испытательные стрельбы показали, что малокалиберные 37-мм пушки и пулеметные установки эти испытания выдержали, а орудия среднего калибра, даже поставленные на усиленные ледовые площадки, после выстрела проваливались в воду. Поэтому было принято решение использовать их для прикрытия береговых баз, складов, пристаней загрузки-выгрузки и железнодорожных станций, а вдоль по трасе установить 37-мм автоматические зенитные пушки и зенитные пулеметы. Для прикрытия железных дорог были оборудованы железнодорожные батареи и зенитные бронепоезда. Это уже была реализация оправдавшегося опыта Московской битвы. Все эти меры заставили немцев резко повысить высоты действий самолетов, что снизило точность ударов по трассе и другим привязанным к ней объектам.
 Построенная система ПВО Дороги жизни обеспечила перевозку по ней зимой 1941-1942 года в город 364 тыс. тонн грузов, эвакуацию 200 тыс. людей населения, а также 554 тыс. детей и женщин. Кроме того, на восток было вывезено около 225 тыс. тонн различных грузов. Движение колонн по льду не прекращалось ни днем, ни ночью. Это было особенно необходимо в голодную зиму блокады. Ленинградцы утром могли получить хотя и весьма скудную, но жизненно необходимую норму.
Построенная система ПВО Дороги жизни обеспечила перевозку по ней зимой 1941-1942 года в город 364 тыс. тонн грузов, эвакуацию 200 тыс. людей населения, а также 554 тыс. детей и женщин. Кроме того, на восток было вывезено около 225 тыс. тонн различных грузов. Движение колонн по льду не прекращалось ни днем, ни ночью. Это было особенно необходимо в голодную зиму блокады. Ленинградцы утром могли получить хотя и весьма скудную, но жизненно необходимую норму.
Эти события нашли отражение в знаменитой «Ленинградской поэме» Ольги Берггольц, написанной зимой 1942 года.
Там есть такие строки:
Шестнадцать тысяч матерей
пайки получат на заре –
сто двадцать пять блокадных грамм,
с огнем и кровью пополам.
Более семи десятилетий отделяет нас от этих событий. Но и теперь читать эти строки трудно без душевного волнения и внутреннего содрогания. Они навсегда оставят неизгладимый след в нашей памяти и памяти наших потомков. Закончим рассказ о ледовой трассе.
За этот период прикрытия ледовой дороги воины ПВО уничтожили 590 самолетов противника, около 400 из них – непосредственно над трассой.
В итоге, благодаря своевременно и грамотно организованной противовоздушной обороне Ленинграда, путей подвоза различных грузов: вооружения, боеприпасов, живой силы – город жил, боролся и наносил по врагу удары.
Авторы: Игорь Докучаев, Юрий Пищиков, Андрей Куприянов
- 932 просмотра
Стражи неба. Часть 1. В небе Москвы: первый поединок с люфтваффе

В истории войск ПВО самым выдающимся и значительным эпизодом, конечно же, является оборона Москвы 1941-1942 годов. Опыт организации системы ПВО столицы Советского Союза того времени по-прежнему имеет огромную ценность, ибо он преподнес нам ряд важнейших уроков, которые актуальны и сегодня. Кроме того, изучение этих весьма интересных исторических событий имеет неоценимое познавательное и воспитательное значение.
К началу войны, в 1941 году, осознав всю опасность угрозы воздушного нападения, Правительство, Наркомат обороны и Генеральный штаб принимают ряд неотложных мер для усиления ПВО.
На специальном заседании ЦК ВКП(б), посвященному этому вопросу, И.В. Сталин подчеркнул:
 «Что касается войск противовоздушной обороны, то здесь первоочередная задача – организовать надежное прикрытие наших промышленных центров, не дать противнику в случае войны уничтожить наш экономический потенциал. О том, как ведется работа в этом направлении, Наркому обороны с начальником Генштаба докладывать мне еженедельно».
«Что касается войск противовоздушной обороны, то здесь первоочередная задача – организовать надежное прикрытие наших промышленных центров, не дать противнику в случае войны уничтожить наш экономический потенциал. О том, как ведется работа в этом направлении, Наркому обороны с начальником Генштаба докладывать мне еженедельно».
Надо отметить, что все упомянутые постановления и решения в то время выполнялись неукоснительно.
Суровым испытанием для системы ПВО страны явилась битва за Москву в 1941 году. Система ПВО Москвы была приведена в готовность к отражению налетов к 18-00 23 июня 1941 года. И вот - начало войны.
170 дивизий вермахта, отмобилизованных и имеющих опыт войны на Европейском ТВД, нанесли сильнейший массированный удар по Советскому Союзу на фронте протяженностью около 3000 км. Враг атакует Прибалтику, Белоруссию, Украину, практически ежесуточно бомбардирует советские города. Взяты Минск, Барановичи, Радом. Обозначилось направление главного удара германской армии – на Москву.
Великий русский, советский поэт Сергей Есенин много лет назад высказал очень верную мысль: «Лицом к лицу – лица не увидать. Большое видится на расстоянии». Поэтому именно сейчас, спустя столько времени после Великой Отечественной войны, стало совершенно очевидно, что первый шаг к Победе над фашистской Германией , семидесятилетие которой мы празднуем в этом году, был сделан в конце 1941 года в полях Подмосковья, у стен столицы Советского Союза – города Москвы и в ее небе.
Принято считать, что битва за Москву началась 30 сентября 1941 года операцией германской армии (Вермахта) под условным наименованием «Тайфун». Однако захват столицы СССР изначально являлся ключевым политическим пунктом всего плана войны (план «Барбаросса»).
Напомним, что пограничные сражения сухопутных войск и в целом начальный период войны Красной Армией были проиграны, при этом – с большими потерями.
Войска Западного фронта, противостоящие группе германских армий «Центр», имевшей главной задачей захват Москвы, в первые же дни потерпели тяжелое поражение. Из 44 дивизий 24 были разгромлены полностью, остальные 20 дивизий потеряли от 30% до 90% сил и средств. Западный фронт оказался не в состоянии остановить врага и обеспечить необходимое время для полного сосредоточения и развертывания стратегических резервов и создания устойчивого фронта обороны.
Развернувшееся 10 июля 1941 года Смоленское сражение началось в исключительно невыгодных условиях для Советских войск. Несмотря на это, оно приняло для немецких войск напряженный затяжной характер, особенно во второй половине июля.
Начальник Генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал-полковник Ф. Гальдер в дневниках записал:
 «Командование противника действует энергично и умело. Его войска сражаются ожесточенно и фанатически…»
«Командование противника действует энергично и умело. Его войска сражаются ожесточенно и фанатически…»
Запись датирована 11 июля, т.е. менее трех недель после начала войны.
Г.К. Жуков этот период характеризует так :
 «…Шел второй месяц войны, а широко разрекламированное обещание Гитлера уничтожить в кратчайший срок Красную Армии, захватить Москву и выйти на Волгу сорвалась. Немецкие войска всюду несли большие потери».
«…Шел второй месяц войны, а широко разрекламированное обещание Гитлера уничтожить в кратчайший срок Красную Армии, захватить Москву и выйти на Волгу сорвалась. Немецкие войска всюду несли большие потери».
После долгих колебаний Гитлер был вынужден 30 июля 1941 года отдать приказ: группе армий «Центр» прекратить наступление на Москву и перейти к обороне.
Таким образом, главным итогом Смоленского сражения, развернувшегося на фронте в 650 км и в глубину до 250 км, явился срыв расчетов гитлеровского руководства на безостановочное продвижение к Москве.
В свою очередь, этот же факт заставил верховное Германское командование пересмотреть концепцию плана «Барбаросса» и раньше намеченных планов начать воздушную стратегическую операцию по уничтожению Москвы в самый разгар Смоленского сражения, уменьшив силы и средства, запланированные для прикрытия своих войск.
Для осуществления этой операции в составе 2-го воздушного флота Германии (более 1600 боевых самолетов) заранее была создана специальная авиационная группа в составе 300 бомбардировщиков новейших типов: Хейнкель-111, Юнкерс-88, и Дорнье-215. Преобладающее большинство летчиков этой группы неоднократно бомбили столицы и крупные центры европейских государств, многие командиры экипажей были в звании «полковник», большинство имело высшие награды Германии.
Подготовка к этой операции велась буквально с первых дней войны: в тыл наших войск забрасывались специальные группы, оснащенные небольшими вращающимися прожекторами и переносными радиомаяками для обозначения направлений пролета немецких бомбардировщиков по заранее намеченным маршрутам налета на Москву.
Подготовка гитлеровской Ставкой массированного авиационного наступления на Москву на широком воздушном фронте от Северо-Западного до Южного операционных направлений не была и не могла быть неожиданной для командования и военного руководства СССР и командования Московской зоной ПВО.
Вспоминая эти дни, командир 1-го корпуса ПВО Д.А. Журавлев отмечал:
 «Успешная борьба с вражескими разведчиками не давала возможности командованию 2-го воздушного флота противника детальнее узнать характер построения противовоздушной обороны Москвы. Уничтожая воздушных разведчиков малыми силами, и в основном на дальних подступах к городу, вне зоны действия зенитной артиллерии, мы не позволяли неприятелю вскрыть наши боевые порядки».
«Успешная борьба с вражескими разведчиками не давала возможности командованию 2-го воздушного флота противника детальнее узнать характер построения противовоздушной обороны Москвы. Уничтожая воздушных разведчиков малыми силами, и в основном на дальних подступах к городу, вне зоны действия зенитной артиллерии, мы не позволяли неприятелю вскрыть наши боевые порядки».
А гитлеровцы в это время уже конкретно готовили воздушное наступление на Москву.
13 июля 1941 года командир 8-го авиакорпуса Люфтваффе генерал В. Рихтгофен высказал убеждение, что воздушные налеты на Москву, имевшую свыше четырех миллионов жителей, ускорят катастрофу русских. На следующий день, 14 июля, Гитлер сформулировал цель предстоящих бомбардировок Москвы:
«Нанести удар по центру большевистского сопротивления и воспрепятствовать организованной эвакуации русского правительственного аппарата».
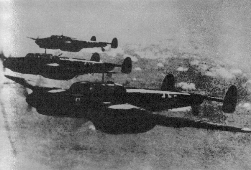 19 июля в директиве № 33 «О дальнейшем ведении войны на востоке» он уже конкретно потребовал: «…развернуть воздушное наступление на Москву…». Была определена и дата наступления. 20 июля командующий 2-м воздушным флотом генерал-фельдмаршал А. Кессельринг провел совещание с командирами бомбардировочных соединений в связи с предстоящей воздушной операцией. Во исполнение директивы № 33 ответственным за организацию и проведение налетов был назначен командир 2-го авиакорпуса генерал Б. Лерцер. Ему были оперативно подчинены все авиагруппы, выделенные для бомбардировки Москвы. Это были достаточно большие силы: из пяти действовавших на восточном фронте авиакорпусов только 4-й не участвовал в налетах на Москву.
19 июля в директиве № 33 «О дальнейшем ведении войны на востоке» он уже конкретно потребовал: «…развернуть воздушное наступление на Москву…». Была определена и дата наступления. 20 июля командующий 2-м воздушным флотом генерал-фельдмаршал А. Кессельринг провел совещание с командирами бомбардировочных соединений в связи с предстоящей воздушной операцией. Во исполнение директивы № 33 ответственным за организацию и проведение налетов был назначен командир 2-го авиакорпуса генерал Б. Лерцер. Ему были оперативно подчинены все авиагруппы, выделенные для бомбардировки Москвы. Это были достаточно большие силы: из пяти действовавших на восточном фронте авиакорпусов только 4-й не участвовал в налетах на Москву.
Ударным силам 2-го воздушного флота Германии противостояла система противовоздушной обороны столицы СССР в составе 1-го корпуса ПВО и 6-го истребительного авиационного корпуса (иак) ПВО, имевшего к 19 июня 1941 года, за два дня до начала войны, 11 истребительных авиационных полков.
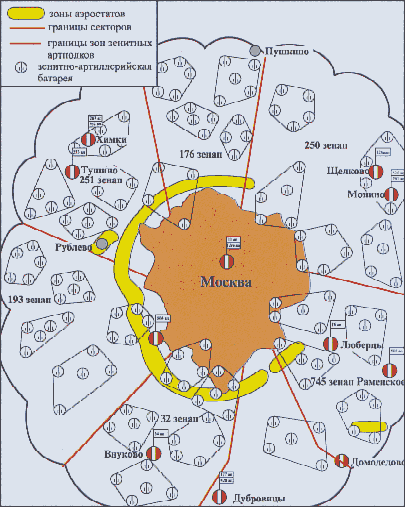 Московской зоной ПВО в то время командовал генерал М. Д. Громадин. Командиром 6-го иак был назначен полковник И.Д. Климов, командующим истребительной авиацией ВВС МВО – генерал Сбытов. Командиром 1-го корпуса ПВО и одновременно начальником пункта ПВО Москвы являлся генерал-майор артиллерии Д.А. Журавлев. Это были замечательные и профессионально грамотные командиры, огромна их заслуга в организации ПВО столицы и четких, слаженных боевых действиях летчиков и зенитчиков. В состав 1-го корпуса входили шесть зенитно-артиллерийских полков среднего калибра, 1 зенитно-пулеметный полк, 2 зенитных прожекторных полка, 2 полка аэростатов заграждения, 2 полка ВНОС, отдельный радиотехнический батальон ВНОС и ряд других подразделений.
Московской зоной ПВО в то время командовал генерал М. Д. Громадин. Командиром 6-го иак был назначен полковник И.Д. Климов, командующим истребительной авиацией ВВС МВО – генерал Сбытов. Командиром 1-го корпуса ПВО и одновременно начальником пункта ПВО Москвы являлся генерал-майор артиллерии Д.А. Журавлев. Это были замечательные и профессионально грамотные командиры, огромна их заслуга в организации ПВО столицы и четких, слаженных боевых действиях летчиков и зенитчиков. В состав 1-го корпуса входили шесть зенитно-артиллерийских полков среднего калибра, 1 зенитно-пулеметный полк, 2 зенитных прожекторных полка, 2 полка аэростатов заграждения, 2 полка ВНОС, отдельный радиотехнический батальон ВНОС и ряд других подразделений.
Зенитно-артиллерийские полки среднего калибра занимали позиции в шести пространственных секторах относительно Москвы, прикрывая соответствующие сектора воздушного пространства. Каждый полк стопушечного состава обеспечивал трехкратное огневое воздействие по самолетам противника с высокой плотностью огня.
Зенитная артиллерия малого калибра и зенитные пулеметы использовались для усиления обороны Кремля, вокзалов, электростанций, аэродромов истребительной авиации, боевых порядков зенитной артиллерии СК и зенитных прожекторов. Позиции зенитных батарей размещались даже непосредственно в городе - например, у Покровских ворот, на многих площадях, стадионах, в частности, на площади Коммуны, в лесопарковой зоне Москвы (Сокольники, Измайлово, Лосиный остров, Битцевский парк и в других местах). На крышах высотных зданий были установлены зенитные пулеметы и орудия малого калибра (например, на крыше здания концертного зала им. Чайковского на пл. Маяковского).
 Для обеспечения стрельбы зенитной артиллерии и боевых действий истребительной авиации в ночных условиях подразделениями зенитных прожекторов была создана сплошная световая полоса глубиной 35-40 км, передний край которой был вынесен на 7-8 км впереди границы открытия огня.
Для обеспечения стрельбы зенитной артиллерии и боевых действий истребительной авиации в ночных условиях подразделениями зенитных прожекторов была создана сплошная световая полоса глубиной 35-40 км, передний край которой был вынесен на 7-8 км впереди границы открытия огня.
Разведку воздушного противника и оповещение о нем осуществляли части ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение и связь). Были созданы две полосы наблюдательных постов с удалением от центра города на 200-250 км и 100-150 км соответственно. Радиолокационные станции РУС-1 и английские MRU находились на рубеже Вязьма - Ржев. Одним из боевых расчетов этих станций командовал лейтенант Г.В. Кисунько, будущий генеральный конструктор советской системы ПРО. Таким образом, на дальних подступах самолеты врага встречала истребительная авиация ПВО, на ближних - зенитная артиллерия и пулеметы, аэростаты воздушного заграждения.
20 июля командующий 2-м воздушным флотом Люфтваффе генерал-фельдмаршал А. Кессельринг, после совещания с командирами авиасоединений, прибыл на аэродром Тересполь и обратился к экипажам бомбардировщиков с таким призывом:
 «Мои авиаторы! Вам удавалось бомбить Англию, где приходилось преодолевать сильный огонь зениток, ряды аэростатных заграждений, отбивать атаки истребителей. И вы отлично справились с задачей. Теперь ваша цель – Москва. Будет намного легче. Если русские и имеют зенитные орудия, то немногочисленные, которые не доставят вам неприятностей, как и несколько прожекторов. Они не располагают аэростатами и совершенно не имеют ночной истребительной авиации. Вы должны, как это всегда делали над Англией, при благоприятных условиях, подойти к Москве на небольшой высоте и точно положить бомбы. Надеюсь, что прогулка будет для вас приятной. Через четыре недели войска победоносного вермахта будут в Москве, а это означает конец войне…»
«Мои авиаторы! Вам удавалось бомбить Англию, где приходилось преодолевать сильный огонь зениток, ряды аэростатных заграждений, отбивать атаки истребителей. И вы отлично справились с задачей. Теперь ваша цель – Москва. Будет намного легче. Если русские и имеют зенитные орудия, то немногочисленные, которые не доставят вам неприятностей, как и несколько прожекторов. Они не располагают аэростатами и совершенно не имеют ночной истребительной авиации. Вы должны, как это всегда делали над Англией, при благоприятных условиях, подойти к Москве на небольшой высоте и точно положить бомбы. Надеюсь, что прогулка будет для вас приятной. Через четыре недели войска победоносного вермахта будут в Москве, а это означает конец войне…»
Вот таким представлялась германскому командованию воздушная операция над Москвой. Последующие события показали, что это был жесточайший просчет Кессельринга.
Разумеется, о готовящемся в самое ближайшее время воздушном наступлении на Москву наше Верховное Главнокомандование знало.
21 июля И.В. Сталин провел в Ставке командно-штабную игру по отражению силами ПВО Москвы дневного воздушного налета противника на столицу с целью - определить его боевые возможности. Руководство игрой было поручено начальнику Генерального штаба Г.К. Жукову.
Вспоминая эту игру, Д.А. Журавлев писал:
 «Авторы разработки создали…сложную обстановку. Согласно их данным, воздушный противник пытался прорваться к Москве тремя большими группами, эшелонированными по высоте и времени. Мне с Климовым пришлось здорово потрудиться, организуя отражение настойчивых атак врага…Коротко подвел итоги начальник Генерального штаба Г.К. Жуков. Из его слов было ясно, что в основном мы со своей задачей справились. Затем И.В. Сталин сказал: - Завтра вы нам покажете отражение ночного налета. Однако второй игре на картах не суждено было состояться ни на следующий день, ни позже. Всего через несколько часов нам пришлось отражать налет на столицу не условного, а вполне реального противника».
«Авторы разработки создали…сложную обстановку. Согласно их данным, воздушный противник пытался прорваться к Москве тремя большими группами, эшелонированными по высоте и времени. Мне с Климовым пришлось здорово потрудиться, организуя отражение настойчивых атак врага…Коротко подвел итоги начальник Генерального штаба Г.К. Жуков. Из его слов было ясно, что в основном мы со своей задачей справились. Затем И.В. Сталин сказал: - Завтра вы нам покажете отражение ночного налета. Однако второй игре на картах не суждено было состояться ни на следующий день, ни позже. Всего через несколько часов нам пришлось отражать налет на столицу не условного, а вполне реального противника».
В основном, Советское командование правильно оценило характер действий люфтваффе.
Итак, свой первый и именно ночной массированный налет на Москву фашистская авиация начала ровно через месяц после начала войны. Этот налет начался в 22.30 в ночь с 21 на 22 июля 1941 года. Как выяснилось позже, налет был подготовлен весьма опытными военными специалистами люфтваффе, квалифицированно и с высоким качеством. Он должен был, по замыслу, заложить основу успеха всей воздушной операции, с последующим, разрушительным для Москвы развитием.
В 21.00 посты ВНОС, расположенные на рубеже Рославль – Смоленск, передали информацию о наличии в воздухе большой группы вражеских самолетов. В 22.00 стало ясно, что на Москву движется более 200 тяжелых бомбардировщиков (222), по двум направлениям, на высотах от 3 до 7 километров, предварительно тремя-четырьмя эшелонами, с интервалом в 35-40 мин., по основному маршруту в створе Орша – Москва. В 22-07 в городе завыли сирены. Москвичи слышат по громкоговорителям четкий собранный голос диктора Всесоюзного радио Александра Уколычева, который трижды повторяет: «Граждане, воздушная тревога!».
В 22.29 прожектора осветили первые – головные цели и генерал Журавлев отдал приказ на ведение огня всеми огневыми средствами. Полковник Климов поднял в воздух истребители на перехват врага. На командный пункт ПВО города прибыли большинство членов ГКО во главе с И.В. Сталиным и командующий Московской зоной ПВО генерал Громадин.
 Воздушные бои развернулись в световых прожекторных полях на рубеже Солнечногорск – Голицыно. Одним из первых в бой вступил командир эскадрильи 11-го иап капитан К.Н. Титенков. Определив в группе флагмана, он атаковал его, сразил сначала его бортстрелка, а затем поджег самолет. После гибели ведущего - лидера взаимодействие в группе вражеских самолетов нарушилось, подоспевшие наши истребители рассеяли строй фашистов и большинство из них, сбросив бесприцельно свой бомбовый груз и маневрируя, устремились назад, на запад, выходя из зоны огня. Кроме капитана Титенкова, уничтожившего самолет-флагман противника, в этом первом налете отличились летчики-истребители лейтенанты В.Д. Лапочкин, Л.В. Еремеев, Л.Г. Лукьянов, и многие другие, а также командир 120-го иап майор А.С. Писанко.
Воздушные бои развернулись в световых прожекторных полях на рубеже Солнечногорск – Голицыно. Одним из первых в бой вступил командир эскадрильи 11-го иап капитан К.Н. Титенков. Определив в группе флагмана, он атаковал его, сразил сначала его бортстрелка, а затем поджег самолет. После гибели ведущего - лидера взаимодействие в группе вражеских самолетов нарушилось, подоспевшие наши истребители рассеяли строй фашистов и большинство из них, сбросив бесприцельно свой бомбовый груз и маневрируя, устремились назад, на запад, выходя из зоны огня. Кроме капитана Титенкова, уничтожившего самолет-флагман противника, в этом первом налете отличились летчики-истребители лейтенанты В.Д. Лапочкин, Л.В. Еремеев, Л.Г. Лукьянов, и многие другие, а также командир 120-го иап майор А.С. Писанко.
Этот подвиг отважного советского летчика не случайно был отражен к 50-летию Победы на памятной стеле, установленной в Москве на площади в Крылатском.
Однако другие группы, прикрываясь плотным огнем бортового оружия, продолжали полет к городу. В ожидаемую зону огня зенитной артиллерии они входили небольшими группами с разных направлений, эшелонировано по высотам. При этом плотность налета оставалась высокой, и генерал Журавлев принял решение и отдал приказ на ведение заградительного огня.
В этом случае стрельба велась в ту часть пространства, где ожидалось появление самолетов с тем, чтобы на пути движения бомбардировщиков была создана сплошная огневая завеса. Такой режим огня не является прицельным и проводит к большому расходу снарядов, однако он позволял сорвать выполнение боевой задачи авиацией противника. Здесь расчет делался на то, что далеко не каждый экипаж вражеского бомбардировщика решится следовать по боевому курсу, если он видит на своем пути сплошную огневую зону из разрывов снарядов. Заградительный огонь производил ошеломляющее воздействие на экипажи вражеских самолетов, подавлял их морально, заставляя уходить с боевого курса, бесприцельно освобождаться от бомбового груза и отказываться от выполнения боевой задачи. Лишь одиночные самолеты прорывались через сплошную огневую зону, главным образом на флангах зенитно-артиллерийских полков, однако и их встретили сюрпризы, которых они не ожидали. Один из командиров вражеских воздушных кораблей фельдфебель Л. Хавигхорст так вспоминает первый налет:
«…Горящий Смоленск являлся хорошим навигационным ориентиром. Четким белым штрихом просматривалась дорога Смоленск – Москва. Скоро мы увидели 10 – 20 прожекторов, создававших световое поле. Попытки обойти его не удались: прожекторов оказалось много и слева, и справа. Я приказал увеличить высоту полета до 4500 м и экипажу надеть кислородные маски… Когда наш самолет вплотную подлетал к Москве и мы собирались освободиться от бомбового груза, раздался взволнованный голос радиста: - Внимание, аэростаты! – Ты обалдел, послышалось в ответ, - мы же летим на высоте 4500!
Экипаж хорошо знал, что англичане не поднимали аэростаты выше 2000 метров, а здесь высота была, по крайней мере, удвоена… Я приказал сбросить бомбы и… мы повернули обратно».
 Первый налет на Москву продолжался пять часов, и все это время ночное небо пересекали пулеметные трассы атакующих истребителей, наземных зенитно-пулеметных установок и зенитно-артиллерийских батарей малого калибра. А внешний контур города был высвечен лучами прожекторов и сполохами – вспышками от разрывов зенитных снарядов батарей среднего калибра.
Первый налет на Москву продолжался пять часов, и все это время ночное небо пересекали пулеметные трассы атакующих истребителей, наземных зенитно-пулеметных установок и зенитно-артиллерийских батарей малого калибра. А внешний контур города был высвечен лучами прожекторов и сполохами – вспышками от разрывов зенитных снарядов батарей среднего калибра.
Этот налет был успешно отражен. К Москве прорвались несколько самолетов, которые успели сбросить бомбы на город. В результате налета пострадало 792 человека (130 убито, 241 тяжело ранено), разрушено 37 зданий, возникло 1166 очагов пожара, повреждено 2 водовода, отдельные участки газовой и электросети, разбито до 100 км пристанционных железнодорожных путей и 19 вагонов с грузом. Несколько бомб упало на территорию Кремля, но они не нанесли существенных повреждений. Пострадали в первом налете, в основном, Ленинградский и Краснопресненский районы столицы. Потери авиации Люфтваффе составили 22 самолета (12 на счету летчиков-истребителей и 10 – на счету зенитчиков). Во время второго налета в ночь на 23 июля из 150 самолетов было сбито 15.
 Враг бросал на Москву до 250 самолетов в одном массированном налете и нес при этом значительные потери в авиации (более 10% самолетов, участвовавших в налете, между тем как в рейдах на Лондон и Париж немцы теряли не более 3% машин). Наиболее крупные потери вражеская авиация понесла 29 октября 1941 г., когда из 100 налетавших самолетов было сбито 44. Фактически лучшие бомбардировочные эскадры Люфтваффе были разгромлены под Москвой (например, эскадра «Кондор» потеряла 70% своего состава, другие от 35% до 50%). Фактически это был провал единственной предусмотренной планом «Барбаросса» стратегической воздушной операции.
Враг бросал на Москву до 250 самолетов в одном массированном налете и нес при этом значительные потери в авиации (более 10% самолетов, участвовавших в налете, между тем как в рейдах на Лондон и Париж немцы теряли не более 3% машин). Наиболее крупные потери вражеская авиация понесла 29 октября 1941 г., когда из 100 налетавших самолетов было сбито 44. Фактически лучшие бомбардировочные эскадры Люфтваффе были разгромлены под Москвой (например, эскадра «Кондор» потеряла 70% своего состава, другие от 35% до 50%). Фактически это был провал единственной предусмотренной планом «Барбаросса» стратегической воздушной операции.
6 ноября 1941 года, когда на станции метро «Маяковская» проходило торжественное заседание, посвященное 24-й годовщине Великого Октября, на котором произносил речь Сталин, немцы направили на Москву 250 самолетов. Ни один из них к Москве не прорвался, а 34 самолета были сбиты.
Авторы: Игорь Докучаев, Юрий Пищиков, Андрей Куприянов
- 1 просмотр
Стражи неба. Часть 10. Меж Орлом и Харьковом…

Обстановка, сложившаяся весной 1943 года, в целом была благоприятной для Советских Вооруженных сил. После зимних ожесточенных сражений на советско-германском фронте наступило относительное затишье. Обе воюющие стороны готовились к очередным решительным битвам. Немецко-фашистская армия стремилась к новому захвату стратегической инициативы и к реваншу за Сталинград, а Красная Армия – к разгрому и изгнанию оккупантов с советской земли. Для достижения поставленных перед собой задач обе воюющие стороны напрягали огромные усилия для укрепления и совершенствования занимаемых позиций на фронте, расширения производства и повышения качественных характеристик вооружения и боевой техники.
Именно тогда, ранней весной, по данным всех видов разведки стали проявляться признаки того, что главные сражения развернутся в районе Курского выступа.
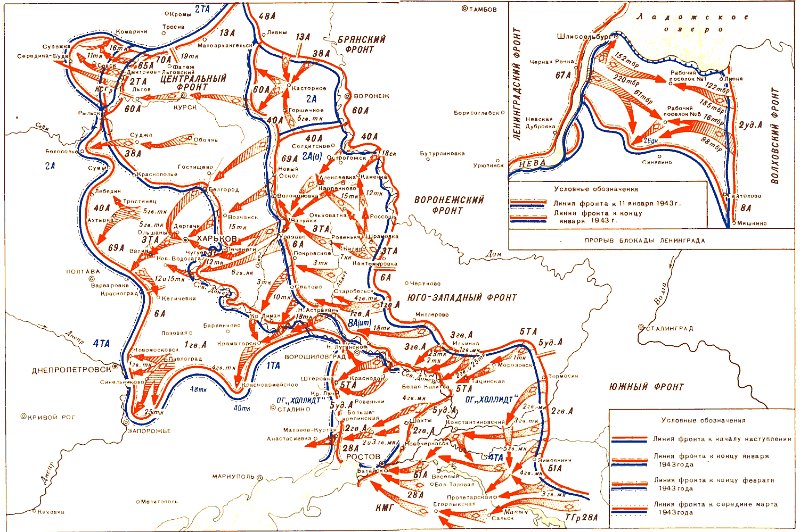
После поражения зимой 1942…1943 годов враг, понеся огромные потери, лишился на юге всех территориальных завоеваний лета 1942 года. Кроме того, советские войска прорвали блокаду Ленинграда, освободили район Великих Лук, с боями продвинулись на 500…600 километров, вышли на подступы к Ростову, Таганрогскому заливу, подошли к Ейску и Краснодару. Была освобождена большая часть Северного Кавказа.
В зимней кампании Красная Армия разгромила более 100 дивизий врага, что составляло до 40% всех его дивизий на советско-германском фронте. Общие безвозвратные потери в живой силе с 1 июля 1942 года по 30 июня 1943 года, по данным генерального штаба сухопутных войск Германии, составили 1.350.000 человек. Бывший генерал-инспектор бронетанковых войск Германии генерал-лейтенант Г. Гудериан 9 марта 1943 года писал:
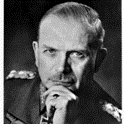 «К сожалению, в настоящее время у нас нет ни одной полностью боеспособной танковой дивизии».
«К сожалению, в настоящее время у нас нет ни одной полностью боеспособной танковой дивизии».
В странах-союзницах Германии усилилось недовольство войной, а особенно – неуверенность в её благоприятном исходе.
Чтобы поднять моральное состояние вермахта и немецкого народа, восстановить военный и политический престиж Германии, укрепить фашистский блок, гитлеровцы решили провести на Восточном фронте большое летнее наступление. Они не без оснований считали, что переход к обороне в стратегических масштабах будет означать признание военного поражения Германии. Гитлеровские генералы всё ещё надеялись разгромить наши главные силы и тем самым добиться изменения хода войны в свою пользу.
С наступлением весны 1943 года Германия и её союзники начали сосредоточение войск и техники в районе Курского выступа. Для того чтобы восстановить людские потери и восстановить многочисленные разбитые дивизии, Гитлер был вынужден объявить тотальную мобилизацию мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, было разбронировано и призвано в армию около 1 млн. высококвалифицированных рабочих. Для работы в промышленности и сельском хозяйстве насильно привлекалось более 7 млн. иностранных рабочих и военнопленных.
В результате всех этих и других мероприятий фашистским руководителям удалось пополнить войска живой силой, увеличить производство тяжелых танков, орудий и минометов в два раза, самолетов – в 1,7 раза по сравнению с 1942 годом. Общая численность немецких войск к лету 1943 года стала ориентировочно такой же, как и осенью 1942 года.
 На Восточном фронте из имеющихся 294 дивизий находилось 195, то есть на 42 дивизии больше, чем 22 июня 1941 года. Сателлиты выставили 32 дивизии и 8 бригад. Однако их боевая выучка и стойкость были уже не такими, как в начале войны.
На Восточном фронте из имеющихся 294 дивизий находилось 195, то есть на 42 дивизии больше, чем 22 июня 1941 года. Сателлиты выставили 32 дивизии и 8 бригад. Однако их боевая выучка и стойкость были уже не такими, как в начале войны.
Но всё же, и главным образом, именно отсутствие второго фронта в Европе позволило гитлеровскому командованию сосредоточить на советско-германском фронте свои главные силы из числа наиболее боеспособных соединений.
Для своего летнего наступления немецко-фашистское командование, как и предполагалось, избрало Курский выступ, который был образован в ходе зимней кампании и находился между городами Орел и Харьков, и который вошел в историю под названием «Курской дуги». Линия фронта здесь была выгнута в сторону гитлеровских войск. К северу и к югу от неё имелись Орловский и Белгородско-Харьковский выступы, обращённые в нашу сторону. В них обоих и видело вражеское командование трамплины для наступления по сходящимся к Курску направлениям. В первой половине апреля план наступательной операции немцев под кодовым названием «Цитадель» был готов.
 Готовя Красную Армию к летней кампании, Государственный Комитет Обороны, Ставка и Генеральный штаб весной 1943 года развернули большую работу на фронте и в тылу для создания условий решительного разгрома оккупантов. Особое внимание ГКО и ЦК ВКП(б) было сосредоточено на производстве самолетов, танков и самоходной артиллерии.
Готовя Красную Армию к летней кампании, Государственный Комитет Обороны, Ставка и Генеральный штаб весной 1943 года развернули большую работу на фронте и в тылу для создания условий решительного разгрома оккупантов. Особое внимание ГКО и ЦК ВКП(б) было сосредоточено на производстве самолетов, танков и самоходной артиллерии.
К лету 1943 года, кроме отдельных танковых и механизированных корпусов, были сформированы и полностью укомплектованы пять танковых армий, имевших в своем составе, как правило, два танковых и один механизированный корпус. Кроме того, для обеспечения прорыва обороны противника и усиления армий были созданы 18 тяжелых танковых полков.
Проводилась большая работа по усилению ВВС. К лету 1943 года почти вся авиация была перевооружена на новую материальную часть (самолеты ЛА-5, ЯК-9, ПЕ-2, ТУ-2, ИЛ-4 и другие новые типы). Было сформировано 8 авиакорпусов дальнего действия. Каждый фронт имел свою воздушную армию (700…800 самолетов).
Формировались новые артиллерийские соединения, вооруженные новыми и более качественными типами орудий. Были созданы соединения резерва Верховного Главнокомандования для организации более высоких плотностей огня на главных направлениях ударов. Большое количество артиллерийских систем было переведено на механизированную тягу. Тыл Красной Армии получил многие десятки новых автомобильных батальонов.
В различных учебных центрах обучались и переподготавливались сотни тысяч бойцов и командиров. На 1 июля 1943 года в резерве Ставки было несколько общевойсковых, две танковые и одна воздушная армия.
Замысел советского командования заключался в организации и создании на данном участке советско-германского фронта глубокой устойчивой преднамеренной обороны Центрального, Воронежского и частично Степного фронтов, с целью отразить наступление врага, обескровить его, «выбить» у него танки и нанести серьезный ущерб его ударной и поддерживающей сухопутные войска авиации. То есть, завоевать господство в воздухе. Затем, перейдя в контрнаступление, нанести решительное поражение главным группировкам немецких войск на северном и южном фасах Курского выступа.
Этот глубоко проработанный и реализованный замысел стал большим и обоснованным вкладом в советскую военную науку и военное искусство, ибо наши войска переходили к обороне не вынужденно, не из-за недостатка сил и средств, как это было в начальный период войны, а именно преднамеренно, располагая превосходящими силами: по личному составу – 1,4:1; по танкам и САУ – 1,2:1; по самолетам – 1,2:1; по орудиям и минометам (без реактивной и зенитной артиллерии) – 1,9:1.
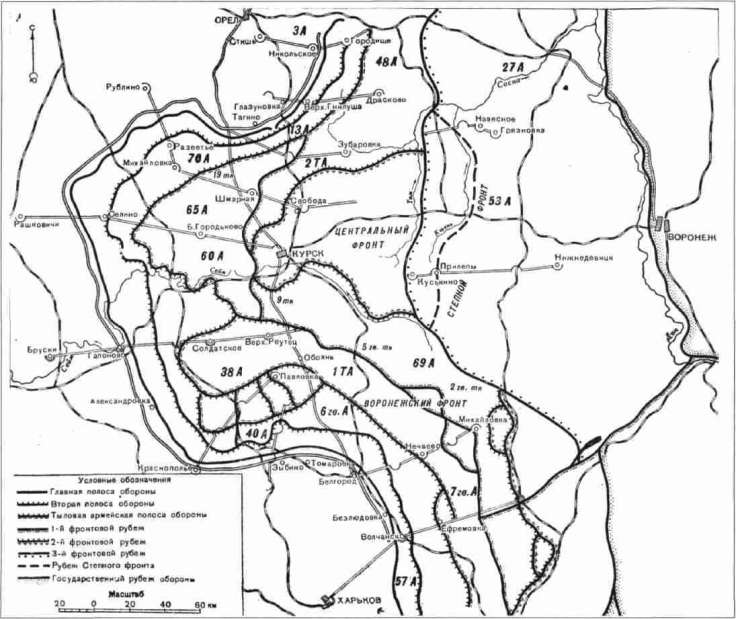
Построение обороны под Курском в стратегическом и оперативно-тактическом отношении являло собой непревзойденный образец, который уверенно можно назвать классическим. Общая глубина обороны Центрального и Воронежского фронтов доходила до 150…190 км, а с учетом Степного фронта – до 250…300 км. В её основу была заложена возможность отразить массированные атаки танков противника, то есть оборона была, прежде всего, противотанковой.
Впервые с начала войны, на всю глубину обороны боевые порядки войск были обеспечены организованным и достаточно эффективным противовоздушным прикрытием. В единой системе ПВО от ударов с воздуха были прикрыты также важные объекты инфраструктуры в тылу фронтов и железнодорожные коммуникации, по которым осуществлялись поставки в войска людей, техники, боеприпасов и другого необходимого имущества и грузов. В целом, свыше 60% боевых порядков войск и объектов обороны были надежно прикрыты средствами ПВО.
Серьезным вкладом в военное искусство следует считать приобретённый в Московской битве опыт организации противовоздушной обороны важнейших прифронтовых объектов, железнодорожных и других коммуникаций стратегического и оперативного значения. Наращивание этого опыта было весьма значительным и в Сталинградской битве, когда Красная Армия практически бесперебойно получала Кавказские нефтепродукты по водной магистрали – по Волге и единственной железной дороге, в 40 км восточнее Волги.
На базе этого опыта, в целях совершенствования боевого управления силами и средствами ПВО, были произведены серьёзные структурные преобразования:
 созданный приказом НКО СССР от 5 апреля 1942 года Московский фронт ПВО Постановлением ГКО от 29 июня 1943 года переформирован в Западный фронт ПВО, с вхождением в него всех сил и средств противовоздушной обороны, действовавших в районе Курского выступа. Командовал фронтом генерал-лейтенант М.С. Громадин.
созданный приказом НКО СССР от 5 апреля 1942 года Московский фронт ПВО Постановлением ГКО от 29 июня 1943 года переформирован в Западный фронт ПВО, с вхождением в него всех сил и средств противовоздушной обороны, действовавших в районе Курского выступа. Командовал фронтом генерал-лейтенант М.С. Громадин.
Приказом НКО СССР от 21 мая 1943 года начато формирование зенитно-артиллерийских, зенитно-пулеметных, прожекторных дивизий, дивизий аэростатов заграждения и ВНОС ПВО страны.
Для противовоздушной обороны сухопутных войск были усилены штатные и приданные зенитно-артиллерийские части. В войсковой ПВО формировались зенитно-артиллерийские дивизии четырехполкового состава: три полка зенитной артиллерии малого калибра (37-мм орудия) и один полк зенитной артиллерии среднего калибра – 85-мм пушки.
Зенитно-артиллерийские дивизии ПВО страны состояли, в основном, из полков среднего калибра. Все полки были пятибатарейного состава по четыре орудия в батарее.
Эта структурная реорганизация имела целью не только количественное увеличение огневых средств противовоздушной обороны войск и объектов. Тактически грамотное размещение позиционных районов зенитных артиллерийских и пулеметных подразделений обеспечивало двух – четырехэшелонное построение боевых порядков батарей и рот из состава каждой дивизии, а организованное взаимодействие огневых сил и средств различных калибров создавало многослойную систему огня по высотам: пулеметные установки – от 10 до 2400 метров; 37-мм автоматические зенитные пушки – от 50 до 6500 метров, 85-мм зенитные орудия – от 100 до 10250 метров. При этом эшелонированные боевые порядки зенитной артиллерии среднего калибра обеспечивали среднюю плотность огня 50…70 разрывов, а на наиболее ответственных направлениях – 80…100 разрывов снарядов на 1 км движения цели в пределах глубины полосы боевой ответственности зенитно-артиллерийских дивизий, полков и отдельных дивизионов. Огонь велся, в основном, по данным станций орудийной наводки - СОН-2. Применение радиолокационных станций орудийной наводки было в то время крупным шагом в техническом оснащении зенитной артиллерии средствами управления огнем.
В непосредственном позиционном соприкосновении и огневом взаимодействии с соединениями и частями войсковой ПВО по решению Ставки находились силы и средства Ряжско-Тамбовского, Воронежско-Борисоглебского, Харьковского и Тульского дивизионных районов ПВО страны, на которые возлагалась боевая задача противовоздушной обороны железнодорожных магистралей и объектов тактического и оперативного значения.
 В их составе находились 547 орудий среднего, 217 орудий малого калибра, 558 зенитных пулеметов и 125 зенитных прожекторов. Из них около 70% орудий среднего, 50% орудий малого калибра, 45% зенитных пулеметов и все прожекторные станции находились на обороне железнодорожных узлов, станций и мостов.
В их составе находились 547 орудий среднего, 217 орудий малого калибра, 558 зенитных пулеметов и 125 зенитных прожекторов. Из них около 70% орудий среднего, 50% орудий малого калибра, 45% зенитных пулеметов и все прожекторные станции находились на обороне железнодорожных узлов, станций и мостов.
Значительная часть зенитных средств была выделена в состав маневренных групп для временного прикрытия станций погрузки и выгрузки войск. Эти группы скрытно, ночью, по разработанному заранее плану, графику, перемещались от объекта к объекту прикрытия.
Противовоздушная оборона эшелонов на перегонах осуществлялась группами, которые состояли из зенитных пулеметных и пушечных взводов, выделенных из состава соединений и частей дивизионных районов ПВО территории страны. Более мощные группы для прикрытия эшелонов с особо важными грузами включали в свой состав зенитные бронепоезда, которых в районе Курска было около 40 единиц. Они, кроме того, усиливали прикрытие больших войсковых колонн на марше, осуществляли внезапные боевые действия по авиации противника из засад.
 Многие из москвичей знают, что несколько бронепоездов, в том числе и зенитных, были произведены на Мытищинском вагоностроительном заводе под названием «Московский метрополитен» и отправлены на фронт, в район Курско-Орловской дуги.
Многие из москвичей знают, что несколько бронепоездов, в том числе и зенитных, были произведены на Мытищинском вагоностроительном заводе под названием «Московский метрополитен» и отправлены на фронт, в район Курско-Орловской дуги.
Сказанное свидетельствует о том, что преднамеренная оборона перед началом Курской битвы была организована и осуществлена не только как противотанковая, но и как противосамолетная.
Авторы: Игорь Докучаев, Юрий Пищиков, Андрей Куприянов
- 457 просмотров
Стражи неба. Часть 2. Крах московской стратегической воздушной операции Люфтваффе

Советское командование правильно оценило характер действий Люфтваффе в первых налетах на Москву. Несмотря на то, что немцы продуманно и грамотно организовали налеты, эти особенности, исходя из опыта войны в Европе и начального периода Великой Отечественной войны, не оказались неожиданными: такой состав сил и построение авиационных групп противника достаточно точно были смоделированы при проведении командно-штабной игры 21 июля 1941 года, что обеспечило весьма организованное отражение первого и последующих ударов вражеской авиации.
 Высокое огневое мастерство проявил личный состав батарей, которыми командовали старший лейтенант Клец, лейтенанты Турукало, Осауляк, Терещенко, расчет отделения ПУАЗО-3, которым командовал младший сержант Шапиро и красноармейцы этого расчета Ефремов, Королев, Нейштадт и другие.
Высокое огневое мастерство проявил личный состав батарей, которыми командовали старший лейтенант Клец, лейтенанты Турукало, Осауляк, Терещенко, расчет отделения ПУАЗО-3, которым командовал младший сержант Шапиро и красноармейцы этого расчета Ефремов, Королев, Нейштадт и другие.
Мужество и отвагу проявили «нестреляющие» расчеты 1-го прожекторного полка майора Волкова. Расчет ефрейтора Петикова не выпускал из светового луча бомбардировщик противника, обеспечив тем самым его обстрел зенитчиками, хотя в это время второй фашистский самолет буквально забрасывал позицию прожектористов зажигательными бомбами.
Один из освещенных бомбардировщиков направился по лучу на прожекторную станцию сержанта Левина, расположенную на крыше здания, обстреливая ее из крупнокалиберного пулемета, однако прожектористы не погасили и не отвели в сторону луч, продолжали ослеплять экипаж самолета. Потеряв ориентировку, самолет врезался в землю недалеко от станции.
В этих подвигах – большая заслуга начальника прожекторных войск полковника Сарбунова, умело и четко управлявшего их боевыми действиями.
В первом налете к Москве прорвались несколько самолетов, которые успели сбросить бомбы на город. В результате налета пострадало 792 человека (130 убито, 241 тяжело ранено), разрушено 37 зданий, возникло 1166 очагов пожара, повреждено 2 водовода, отдельные участки газовой и электросети, разбито до 100 км пристанционных железнодорожных путей и уничтожено 19 вагонов с грузом. Одна бомба упала на территорию Кремля, но не нанесла существенных повреждений. Пострадали в первом налете, в основном, Ленинградский и Краснопресненский районы столицы. Потери авиации Люфтваффе составили 22 самолета (12 на счету летчиков-истребителей и 10 – на счету зенитчиков). Во время второго налета в ночь на 23 июля из 150 самолетов было сбито 15.
Истребители 6-го ИАК ПВО произвели 173 самолетовылета, провели 25 воздушных боев и уничтожили 12 бомбардировщиков противника.
В этом первом, очень плотном налете немецкой авиации, действовавшей в достаточно узком секторе, на один сбитый самолет противника потребовалось 14 самолетовылетов и 2 боя. Однако статистика всей войны в дальнейшем показала, что на один сбитый самолет врага тратились в 1941 году – более 200, в 1943 году – 155, в 1945 году – 53 самолетовылетов.
Как видим, затраты не меньшие, чем на заградительный огонь зенитной артиллерии (29 тыс. снарядов и 130 тыс. патронов для ЗП). Однако, несмотря на это, Москва сильно не пострадала, жертв среди ее населения было относительно мало. Поэтому здесь следует сделать оценочный вывод: что дороже? Количество самолетовылетов и сбитых самолетов, а также выпущенных снарядов или цена предотвращенного ущерба городу? При этом мы должны понимать, что любая война – явление разрушительное и дорогостоящее. Конечно же, эффективность средств ПВО оценивается, прежде всего, ценой предотвращенного ущерба. Главное – не дать возможности противнику выполнить боевую задачу. Упомянутые показатели определяются общей подготовленностью государства к войне, а именно подготовленностью политической, экономической и военной. Последний же фактор определяется уровнем и качеством оперативно-тактической подготовки командного состава и боевой выучкой остального личного состава.
Несмотря на определенные недостатки, эти важнейшие показатели у воинов противовоздушной обороны столицы СССР оказались весьма высокими, особенно морально-политические качества (гораздо более высокими, чем у многих немецких летчиков), а это определило и их боевую самоотверженность.
Враг бросал на Москву до 250 самолетов в одном массированном налете и нес при этом значительные потери в авиации (более 10% самолетов, участвовавших в налете, между тем как в рейдах на Лондон и Париж немцы теряли не более 3% машин).
 Лучшие бомбардировочные эскадры Люфтваффе были разгромлены под Москвой. Это были знаменитые подразделения, имевшие грозные названия «Кондор», «Гриф». Именно эти эскадры бомбардировали европейские столицы, они стерли с лица земли испанский город Герника, английский Ковентри, они бомбили Лондон и Париж. Эскадра «Кондор» потеряла под Москвой 70% своего боевого состава, другие эскадры – от 30 до 50%.
Лучшие бомбардировочные эскадры Люфтваффе были разгромлены под Москвой. Это были знаменитые подразделения, имевшие грозные названия «Кондор», «Гриф». Именно эти эскадры бомбардировали европейские столицы, они стерли с лица земли испанский город Герника, английский Ковентри, они бомбили Лондон и Париж. Эскадра «Кондор» потеряла под Москвой 70% своего боевого состава, другие эскадры – от 30 до 50%.
Фактически это был провал единственной предусмотренной планом «Барбаросса» стратегической воздушной операции.
***
Как же действовали зенитчики-артиллеристы при отражении налетов воздушного противника? Попробуем немного раскрыть динамику действий боевых расчетов.
Воздушный противник в первую очередь стремится блокировать аэродромы истребительной авиации, подавить огневые позиции зенитной артиллерии и др. средства ПВО. Во время этого боя весь личный состав частей и подразделений ПВО испытывал сильнейшее психологическое и физическое напряжение, под грохот разрывов и свист падающих бомб. Немцы, кроме авиабомб, сбрасывали с самолетов пустые продырявленные металлические бочки, которые при падении с высоты издавали душераздирающий свист и вой. Это делалось с целью психологического воздействия на войска и население. Покажем эту напряженную динамику боя на примере боевой работы зенитной артиллерийской батареи среднего калибра, где эту динамику испытывал на себе весь личный состав, от командира батареи до рядового бойца.
 Часто эти бои по отражению налетов были настолько ожесточенными, что и в пригородной зоне, и в самой Москве стоял оглушительный грохот от массированной стрельбы зенитной артиллерии, который порой сливался в сплошной рев. Стволы орудий раскалялись и с них слетала даже огнеупорная краска. Особенно высокую физическую нагрузку испытывали заряжающие зенитных орудийных расчетов, поэтому их всегда отбирали из наиболее физически сильных и выносливых бойцов. Он должен поднять унитарный патрон (так у артиллеристов называется снаряженный боеприпас) из устройства, которое называется «механический установщик взрывателей» (МУВ), где по сигналам прибора управления устанавливается временная задержка дистанционного взрывателя. Этот унитарный патрон калибра 85 мм весит около 15 кг. Заряжающий поднимает боеприпас, досылает его рукой в казенную часть ствола и после закрытия затвора по команде производит выстрел. После окончания отката ствола и выброса стреляной гильзы он снова принимает унитарный патрон и повторяет все предыдущие операции. (Особенно это трудно сделать, когда ствол орудия задран вверх).
Часто эти бои по отражению налетов были настолько ожесточенными, что и в пригородной зоне, и в самой Москве стоял оглушительный грохот от массированной стрельбы зенитной артиллерии, который порой сливался в сплошной рев. Стволы орудий раскалялись и с них слетала даже огнеупорная краска. Особенно высокую физическую нагрузку испытывали заряжающие зенитных орудийных расчетов, поэтому их всегда отбирали из наиболее физически сильных и выносливых бойцов. Он должен поднять унитарный патрон (так у артиллеристов называется снаряженный боеприпас) из устройства, которое называется «механический установщик взрывателей» (МУВ), где по сигналам прибора управления устанавливается временная задержка дистанционного взрывателя. Этот унитарный патрон калибра 85 мм весит около 15 кг. Заряжающий поднимает боеприпас, досылает его рукой в казенную часть ствола и после закрытия затвора по команде производит выстрел. После окончания отката ствола и выброса стреляной гильзы он снова принимает унитарный патрон и повторяет все предыдущие операции. (Особенно это трудно сделать, когда ствол орудия задран вверх).
И все это десятки раз, без малейшей передышки, с тем чтобы обеспечить максимальный темп стрельбы зенитной батареи, особенно при ведении заградительного огня.
Таким образом, заряжающий 85-мм зенитного орудия за один эпизод боя по отражению налета, за 10 минут при скорострельности орудия 20 выстрелов в минуту перекидывал через свои руки приблизительно 200 снарядов, т.е. около 3000 кг.
Напомним, что при отражении 1-го налета все батареи ЗА среднего калибра израсходовали 29 тыс. снарядов.
Вот это только один пример такой динамики. Кроме того, все зенитчики сознавали свою высочайшую ответственность перед народом, перед москвичами. Они были едины с ними, как и весь советский народ, и его руководство, в то грозное время. Тогда все действовали под едиными лозунгами: на фронте – «Наше дело правое, победа будет за нами», а в тылу - «Всё для фронта, всё для победы». Все воины московской зоны ПВО понимали, что если пропустишь самолет к Москве, значит - полторы-две тонны бомбового груза вражеского самолета упадет на город – а это гибель и страдание людей, это огромные разрушения и материальный ущерб.
***
Мы писали уже о трех этапах воздушной операции немецкого командования и упомянем о них еще ниже. В связи с этим, следует опять вернуться к тем боям и сражениям, которые развернулись на сухопутных фронтах и в целом определили как действия германской авиации, так и организацию противодействия ей со стороны противовоздушной обороны столицы.
В конце июля контрудары и наступательные действия советских войск на Бобруйск и в других местах не получили широкого развития. Переходом их с 10 сентября к обороне закончилось огромное по размаху и напряжению Смоленское сражение, сорвавшее стратегические расчеты гитлеровского командования на безостановочное продвижение к Москве. В то же время, немецкая авиация не прекращала налеты на столицу СССР, постоянно меняя схемы построения эшелонов, их количественный состав и тактику боевых действий летчиков, в особенности при входе в зону сплошного зенитно-артиллерийского огня. В целом же общее количество бортов в каждом налете стало меньшим. Во-первых, это было связано с большими потерями, понесенными в июле – августе, во-вторых, с необходимостью в период перегруппировки немецких войск для нового наступления, не дать Красной Армии пополнить поредевшие соединения и части. Исходя из этого, часть немецких бомбардировщиков была нацелена на районы и магистрали, обеспечивающие пополнение Красной Армии на дальних подступах к Москве, и не только: именно в этот период, в соответствии с Решением ГКО от июля 1941 года была организована эвакуация заводов, прежде всего - оборонного значения на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию. Поэтому железнодорожные магистрали работали исключительно напряженно как в сторону запада, так и в сторону востока.
 Оборона магистралей Московской зоной ПВО осуществлялась постоянно как летчиками 6 ИАК, так и наземными зенитными средствами: «кочующими группами», пулеметно-артиллерийскими засадами, бронепоездами и отдельными платформами с зенитно-пулеметными установками, прицеплявшимися к поезду в голове и хвосте эшелонов.
Оборона магистралей Московской зоной ПВО осуществлялась постоянно как летчиками 6 ИАК, так и наземными зенитными средствами: «кочующими группами», пулеметно-артиллерийскими засадами, бронепоездами и отдельными платформами с зенитно-пулеметными установками, прицеплявшимися к поезду в голове и хвосте эшелонов.
Поэтому отметим огромную заслугу Московской ПВО в том, что фронт получал своевременно резервы, боеприпасы, технику. Одновременно сохранялось и заводское оборудование, эвакуируемое на восток. А через Московский железнодорожный узел проходило до 40% эвакуируемого оборудования из западных районов страны.
Таким образом, зона боевых действий, воздушных боев и сражений приобрела размах по глубине от линии фронта до границ Москвы. Бои велись практически круглосуточно: и днем, и ночью. Летчики поднимались в воздух ежедневно пять-семь раз, образно говоря, работали на износ. Во взаимодействии с летчиками разили огнем врага артиллеристы-зенитчики 7-й и 13-й отдельных бригад ПВО Западного фронта, зенитные полки и дивизионы Калининского и Тульского бригадных районов ПВО. Зенитно-пулеметные роты и взводы Московской зоны ПВО, расположенные на узловых железнодорожных станциях, не давали фашистским летчикам возможности уничтожать прицельно пути, стрелочные механизмы, другие станционные сооружения, эшелоны с войсками и техникой. По фронту зона воздушных и противовоздушных схваток протянулась от Калинина до Тулы.
И все же главной задачей была – предотвратить прорыв бомбардировщиков врага к Москве. А налеты продолжались. В боях этого периода по отражению и срыву операции Люфтваффе особенно отличились летчики, совершившие ночной воздушный таран вражеских бомбардировщиков: старший лейтенант Петр Еремеев – 29 июля и младший лейтенант Виктор Талалихин – 7 августа 1941 года. 10 августа в небе Москвы лейтенант А. Катрич впервые в истории авиации совершил высотный воздушный таран, атакуя новейший бомбардировщик «Дорнье-217» на высоте 10 тыс. метров.
 История Великой Отечественной войны показала, что фашистские летчики ни разу не использовали такой боевой прием, как таран. И вообще, в большинстве случаев, в особенности во второй половине войны, германские истребители уклонялись от воздушного боя, если не имели превосходящего количественного преимущества.
История Великой Отечественной войны показала, что фашистские летчики ни разу не использовали такой боевой прием, как таран. И вообще, в большинстве случаев, в особенности во второй половине войны, германские истребители уклонялись от воздушного боя, если не имели превосходящего количественного преимущества.
Храбро сражались и другие летчики 6-го авиакорпуса ПВО. Нельзя не вспомнить, что уже с первых дней войны таран применили также летчики А. Бутелин, И. Иванов, Д. Кокорев, П. Рябцев, П. Харитонов, С. Здоровцев, М. Жуков, С. Гошко, Б. Ковзан и многие другие.
Всего в небе Москвы советские летчики применили воздушный таран более 30 раз, в преобладающем большинстве оставшись сами живыми и сохранив свои самолеты.
Надежную преграду вражеским самолетам создавали и наземные средства ПВО столицы. О многих таких фактах уже сказано. Однако следует добавить и о таком «тихом» вооружении ПВО, как аэростаты воздушного заграждения (АЗ). Всего за время воздушной операции против Москвы отмечены 92 случая столкновения вражеских самолетов с тросами аэростатов заграждения. Первые два из них были уничтожены в ходе второго налета на Москву. Отличились командир расчета сержант И. Губа и моторист красноармеец А. Гусев. В августе на трос аэростата сержанта Ф. Самойлова налетели два фашистских самолета.
 Всего за время воздушной битвы за Москву официально зарегистрировано (т.е. остатки самолетов найдены) уничтожение 7 и серьезные повреждения 12 бомбардировщиков врага с помощью аэростатов. В дальнейшем неоднократно было установлено, что часть из налетевших на тросы АЗ самолетов упали у линии фронта и за ней, не долетев до своих аэродромов.
Всего за время воздушной битвы за Москву официально зарегистрировано (т.е. остатки самолетов найдены) уничтожение 7 и серьезные повреждения 12 бомбардировщиков врага с помощью аэростатов. В дальнейшем неоднократно было установлено, что часть из налетевших на тросы АЗ самолетов упали у линии фронта и за ней, не долетев до своих аэродромов.
Дополнить рассказом о постах ВНОС: оптические приборы, звукоулавливатели («слухачи»), средства связи. Радиолокационных станций в то время еще было немного, радиолокация делала в то время свои первые шаги, и они использовались для обнаружения самолетов на дальности 100…120 км, располагались они на рубеже Вязьма - Ржев.
В общей сложности, за первый этап стратегической воздушной операции, т.е. в июле-августе, вражеская авиация, рвавшаяся к Москве, потеряла около 200 бомбардировщиков. Гитлер был вынужден перебросить под Москву с Запада и других фронтов еще до 100 самолетов.
На втором этапе операции, с 15 августа до начала октября, несмотря на то, что в воздухе велись только систематические боевые действия, 2-й воздушный флот Люфтваффе потерял также около 200 самолетов.
Однако весьма важным следует считать тот факт, что за первые два этапа воздушной операции гитлеровцы лишились многих, очень многих опытных летчиков, имевших более чем двухлетний опыт преодоления противовоздушной обороны и нанесения точных ударов по объектам в сложной боевой обстановке.
Третий этап стратегической воздушной операции день в день совпал с началом генерального наступления на Москву сухопутных войск группы армий «Центр» - т.е. с операцией «Тайфун». К этому времени 2-й воздушный флот Люфтваффе был значительно усилен передачей ему большого количества самолетов различных типов. Теперь уже налеты бомбардировщиков были спланированы под прикрытием истребителей сопровождения Ме-109 и Ме-110.
Зона боевых действий противостоящих сторон в воздухе вновь заняла весь объем пространства от линии фронта до Москвы. Воздушные бои, бомбардировочные и штурмовые действия авиации велись практически круглосуточно, особенно в октябре. Если за первый и второй этапы воздушной операции (с июля до 1 октября) общее число самолетовылетов противника было 4212, то в третьем этапе с 1 октября до середины ноября оно составило 3981. Если в первый и второй этапы на Москву было совершено 36 массированных налетов – ночных, то в октябре – ноябре число налетов составило 72, т.е. вдвое больше, из них 30 были проведены днем, с мощным прикрытием истребителей сопровождения. За эти два месяца непрерывных воздушных атак к городу прорвались 100 самолетов, но даже и теперь эта цифра составила всего лишь 2,5% от общего числа входивших в зону сплошного зенитного огня.
К этому, начальному этапу операции «Тайфун» следует отнести такой факт: незадолго до ее начала Гитлер в беседе с послом Японии заверил его, что вскоре Москва будет взята Германской армией, а ее основные государственные и военные объекты будут разрушены Люфтваффе. Однако, несмотря на эти заверения Гитлера, Япония в войну вступать не спешила. А вскоре советский разведчик Рихард Зорге прислал в Москву сообщение о том, что Япония в 1941 г. в войну не вступит. Так что японцы внимательно следили и за результатами налетов, и за развитием операции «Тайфун», в ходе которой самое активное, причем очень результативное, участие приняли войска Московского корпусного района ПВО.
К 1 декабря 1941 года операция «Тайфун» ожидаемых результатов не достигла. Захлебнулась окончательно и стратегическая воздушная операция, преследовавшая цель – стереть с лица земли столицу СССР город Москву.
В декабре немецкая авиация совершила только 14 налетов на Москву, из них два – днем, общим числом в 200 самолетовылетов. Из них гитлеровцы потеряли 91 самолет, к городу прорвались 9 самолетов (4,5% от общего числа). Но их пилотировали уже не те мастера, что были в начале операции, и ущерб городу был нанесен весьма незначительный.
Надо прямо отметить: участие Московского корпусного района ПВО в отражении ударов третьего этапа немецкой стратегической воздушной операции на фоне отражения генерального наступления группы армий «Центр» фон Бока (операция «Тайфун») было очень сложным и напряженным. В этот период значительные силы 6-го иак ПВО и 1-го корпуса ПВО по приказу Ставки отвлекались для нанесения ударов и препятствия прорыву головных танковых и механизированных соединений гитлеровцев по всему протяжению Калининского, Западного и Воронежского фронтов от Калинина до Тулы. Из состава 1-го корпуса ПВО изымались, зачастую безвозвратно, значительные силы и средства и передавались в армии и соединения этих фронтов.
И все же, несмотря на это, за весь период с июля 1941 года по январь 1942 года войска Московского корпусного района ПВО на подступах к Москве и над самой столицей уничтожили 952 самолета и свыше 130 подбили. Отразили 122 налета, в которых участвовало свыше 8 тысяч самолетов противника. Из этого числа к городу прорвались лишь 229 самолетов, что составило около 3% от их общего количества.
2-й воздушный флот Германии за это время потерял более 60% своего начального состава, резко снизилась его эффективность в выполнении задач непосредственной поддержки наземных войск, наступающих на Москву. А главное, – захват или разрушение Москвы откладывались на неопределенное время.
Характерны результаты исследований и выводы немецкого публициста и историка К. Рейнгардта, отмечавшего, что действия ПВО Москвы:
 «…перечеркнули желания Гитлера при помощи авиации сровнять Москву с землей… И действительно, противовоздушная оборона Москвы была такой сильной и хорошо организованной, что немецкие летчики считали налеты на русскую столицу более опасным и рискованным делом, чем налеты на Лондон».
«…перечеркнули желания Гитлера при помощи авиации сровнять Москву с землей… И действительно, противовоздушная оборона Москвы была такой сильной и хорошо организованной, что немецкие летчики считали налеты на русскую столицу более опасным и рискованным делом, чем налеты на Лондон».
Авторы: Игорь Докучаев, Юрий Пищиков, Андрей Куприянов
- 536 просмотров
Стражи неба. Часть 3. Прямой наводкой! Зенитки против танков

Несмотря на напряженные боевые действия против немецкой авиации, войска Московской зоны ПВО приняли самое непосредственное участие и в разгроме наземных войск противника. И этот факт имеет очень большой исторический интерес и значение. Еще в ходе Смоленского оборонительного сражения из состава сил и средств ПВО столицы выделялись «кочующие группы» и засады в составе батарея – взвод для обороны коммуникаций и тыловых объектов фронтов. Внезапность открытия огня по самолетам-разведчикам и бомбардировщикам, совершавшим налеты на транспортные узлы и объекты фронтового значения, заставляла противника увеличивать высоту полета, лишаясь возможности прицельного бомбометания, либо отказываться от налетов вообще. При этом такие группы зачастую наносили неожиданные пулеметно-артиллерийские удары по передовым колоннам прорвавшихся через фронт наступающих немецких войск, сея среди них панику и нанося серьезный урон живой силе технике. Такие группы результативно действовали в районах Ярцево и на других направлениях.
 30 сентября германские танковые соединения, пополненные и перегруппированные, прорвали оборону Брянского фронта и устремились на Орел – Тулу. 2 октября после мощной артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление остальные силы группы армий «Центр». Началось генеральное наступление Вермахта на Москву – стратегическая операция «Тайфун».
30 сентября германские танковые соединения, пополненные и перегруппированные, прорвали оборону Брянского фронта и устремились на Орел – Тулу. 2 октября после мощной артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление остальные силы группы армий «Центр». Началось генеральное наступление Вермахта на Москву – стратегическая операция «Тайфун».
По опыту начала войны немецкая авиация, теперь уже снова крупными силами, осуществляла разведку и уничтожение пунктов и узлов боевого управления, районов оперативных и тактических резервов Красной Армии. Это им зачастую удавалось. На ряде направлений управление советскими войсками было в значительной степени нарушено. Генеральный штаб Красной Армии, а в ряде случаев даже командующие обороняющихся армий нередко не знали истинного положения дел и обстановки. Решение на маневр и отход войск иногда принимались с большим опозданием, что в конечном итоге приводило к окружению отдельных частей и соединений.
 Поэтому Ставка Верховного Главнокомандования СССР вменило в обязанность подразделений и частей ВНОС Московской зоны ПВО, а также авиационных полков 6-го истребительного авиационного корпуса ведение разведки продвижения наземного противника в сторону к столице и нанесение по нему огневых, бомбовых и штурмовых ударов.
Поэтому Ставка Верховного Главнокомандования СССР вменило в обязанность подразделений и частей ВНОС Московской зоны ПВО, а также авиационных полков 6-го истребительного авиационного корпуса ведение разведки продвижения наземного противника в сторону к столице и нанесение по нему огневых, бомбовых и штурмовых ударов.
Во многих случаях эти разведывательные данные были единственными оперативными и достоверными, что позволяло Генеральному штабу и командованию Московского оборонительного района принимать незамедлительные меры по пресечению прорыва противника к городу.
В эти и последующие, вплоть до января 1942 года, дни штурмовые действия 6-го истребительного авиационного корпуса по войскам противника приняли весьма большой размах. Корпус произвел около 3000 бомбардировочных и штурмовых вылетов истребителей, вооруженных реактивными снарядами, чем весомо обеспечил успех наземных частей Красной Армии и разгром противника под Москвой. Штурмовые удары носили массированный характер и направлялись по главным группировкам противника на решающих направлениях.
Возросшая в этот период (после 30 сентября) угроза прорыва к Москве немецких танковых и моторизованных группировок вынудила советское командование маневрировать силами и средствами ПВО, обстановка этого требовала. Как уже было написано ранее, часть авиации 6 ИАК была передана на помощь войскам фронтов, оборонявших Москву. В период наступления немцев часть подразделений зенитной артиллерии была выдвинута на танкоопасные направления, а некоторые батареи заняли огневые позиции непосредственно на рубежах противотанковой обороны. Кроме того, по указанию Ставки ВГК 1-й корпус ПВО для борьбы с наземным противником организовал две зенитные артиллерийско-пулеметные группы.
 В специальном приказе наркома обороны СССР от 12 октября 1941 года перед зенитчиками была поставлена дополнительная задача: кроме отражения налетов воздушного противника быть готовыми к отражению и истреблению прорвавшихся танковых частей и живой силы противника.
В специальном приказе наркома обороны СССР от 12 октября 1941 года перед зенитчиками была поставлена дополнительная задача: кроме отражения налетов воздушного противника быть готовыми к отражению и истреблению прорвавшихся танковых частей и живой силы противника.
Зенитчики успешно справились и с этой дополнительной поставленной перед ними трудной задачей. В боях с воздушным и наземным противником они не только проявили героизм, отвагу и самоотверженность. Они показали также отличную боевую выучку и профессиональное воинское мастерство артиллеристов: они полностью использовали высокую эффективность огня зенитной артиллерии при стрельбе по танкам. Там, где на рубежах противотанковой обороны стояли зенитчики Красной Армии, враг не только не прошел: он был остановлен, отброшен и понес значительные потери в бронетанковой технике и живой силе. Эту силу ударов и эффективность огня Вермахт почувствовал и в битве под Москвой.
 Высокая эффективность огня зенитной артиллерии при стрельбе по танкам определялась внушительной массой (4,5 тонны) и высокой устойчивостью зенитной пушки при стрельбе (она опиралась на грунт четырьмя точками, а станины укреплялись дополнительными металлическими клиньями), а также хорошими прицельными устройствами. Массивный снаряд весом 9 кг и мощный пороховой заряд, длинный ствол пушки обеспечивали высокую начальную скорость снаряда, 800 м/сек – а это, в свою очередь, обеспечивало высокую бронепробиваемость и поражение любого танка на дальности прямой видимости, т. е. раньше, чем танк мог обнаружить орудие и выстрелить по нему. Стрельба велась специальными бронебойными и подкалиберными снарядами.
Высокая эффективность огня зенитной артиллерии при стрельбе по танкам определялась внушительной массой (4,5 тонны) и высокой устойчивостью зенитной пушки при стрельбе (она опиралась на грунт четырьмя точками, а станины укреплялись дополнительными металлическими клиньями), а также хорошими прицельными устройствами. Массивный снаряд весом 9 кг и мощный пороховой заряд, длинный ствол пушки обеспечивали высокую начальную скорость снаряда, 800 м/сек – а это, в свою очередь, обеспечивало высокую бронепробиваемость и поражение любого танка на дальности прямой видимости, т. е. раньше, чем танк мог обнаружить орудие и выстрелить по нему. Стрельба велась специальными бронебойными и подкалиберными снарядами.
В эти же дни первого этапа операции «Тайфун», в связи с угрозой прорыва вражеских войск через Боровск на Наро-Фоминск и через Малоярославец на Подольск, в помощь войскам 33-й армии решением Ставки была выделена группа в составе четырех зенитно-артиллерийских батарей и трех зенитно-пулеметных взводов. 12 октября в районе г. Боровск, группа вступила в бой с колонной противника численностью до пехотного полка, усиленного танками. Девять часов артиллеристы и пулеметчики сдерживали врага, а затем подошедшие силы 33-й армии контрударом отбросили гитлеровцев на 8 км от Боровска. В ходе этого боя фашисты окружили пулеметчиков, прижав их к реке Протва и отрезав сильным огнем от переправы через реку. Смелой и стремительной атакой пулеметчики прорвались к мосту и при этом блокировавшие их фашисты понесли большие потери и отступили. В этом бою зенитно-артиллерийская группа уничтожила 8 танков, два бомбардировщика и до батальона пехоты врага.
Заключительным этапом октябрьских оборонительных боев Красной Армии явилась героическая оборона Тулы. В этих боях большую роль сыграли части Тульского бригадного района ПВО. С целью организации противотанковой обороны основные силы 732 зенап сосредоточились на Калужском и Одоевском шоссе, как наиболее танкоопасных направлениях. На оборону южных подступов к Туле были выдвинуты 4 батареи среднего калибра. Перед огневыми позициями были вырыты противотанковые рвы, установлены противотанковые заграждения и минные поля. Для ночного боя были подготовлены прожекторные станции.
Только за один день – 30 октября в ходе обороны города зенитчиками фашисты потеряли 26 танков, более 200 солдат и офицеров. А в целом, за период с 29 октября по 26 декабря 1941 года 732 зенап уничтожил 49 танков, 5 бронемашин, 3 артиллерийских и 12 минометных батарей, 2 пулеметные точки, 11 самолетов и до 1850 фашистских солдат и офицеров.
Гитлеровский генерал Г. Гудериан в своих мемуарах отметил:
 «29 октября наши головные танковые подразделения достигли пункта, отстоящего на 4 км от Тулы. Попытка захватить город с ходу натолкнулась на сильную противотанковую и противовоздушную оборону и окончилась провалом, причем мы понесли значительные потери в танках и в офицерском составе».
«29 октября наши головные танковые подразделения достигли пункта, отстоящего на 4 км от Тулы. Попытка захватить город с ходу натолкнулась на сильную противотанковую и противовоздушную оборону и окончилась провалом, причем мы понесли значительные потери в танках и в офицерском составе».
В итоге взять Тулу фашисты так и не смогли.
Однако 18 ноября 2-я немецкая танковая группа (армия) прорвала оборону 50-й армии и развернула наступление на Каширу и Коломну в обход Тулы с востока. С 24 ноября разгорелись жестокие бои с немецкими танками под Веневом. В состав сил ПТО Венева из-под Тулы была передислоцирована 16-я батарея 732 зенап в распоряжение командира 702 артиллерийского полка. Утром 24 ноября немцы начали штурм Венева с разных направлений группами по 8…10 танков. Зенитчики, охранявшие центр города, сражались с врагом в полном окружении. К концу дня все орудия были уничтожены и расчеты погибли. В боевом донесении командир 702 артполка доложил: «16 батарея 732 зенитно-артиллерийского полка в период обороны Венева уничтожила три самолета и шесть танков противника. Весь личный состав батареи погиб в бою».
И в то же время, ни на день, ни на час не прекращалось выполнение частями ПВО Москвы своей основной задачи – уничтожения ударной авиации противника, имевшей целью стереть столицу СССР с лица земли.
Авторы: Игорь Докучаев, Юрий Пищиков, Андрей Куприянов
- 806 просмотров
Стражи неба. Часть 4. Москва прифронтовая...

Необходимо также рассказать и о том, как при отражении налетов действовали формирования местной ПВО, аварийно-восстановительная, противопожарная и другие службы, в чем заключалась задача истребительных батальонов.
В годы войны органы советской власти и Московская партийная организация, которые работали в тесном контакте, проводили огромную организующую работу. Председателем Моссовета в то время был Пронин Василий Прохорович, а Московскую партийную организацию возглавлял Щербаков Александр Сергеевич. Под их руководством была построена для системы ПВО сеть командных пунктов и линий связи. Московская партийная организация направила в действующую армию, в том числе и в ПВО, половину своего состава (за первые 5 месяцев войны - 100 тысяч коммунистов и 260 тысяч комсомольцев). В течение нескольких дней в начале войны парторганизация города сформировала в Москве и области 87 истребительных батальонов (25 из них в Москве). В чем же состояла их задача?
 В первые месяцы войны немцы буквально наводняли Москву своими агентами. На территории московской области высадились около 20 парашютных десантов врага – все они были ликвидированы истребительными батальонами.
В первые месяцы войны немцы буквально наводняли Москву своими агентами. На территории московской области высадились около 20 парашютных десантов врага – все они были ликвидированы истребительными батальонами.
Они патрулировали улицы совместно с органами милиции, отслеживали и ликвидировали вражеских агентов, подававших световые сигналы для вражеской авиации. Задачей истребительных батальонов была также охрана промышленных предприятий, мостов, электростанций и других важных объектов. Около 50% состава их бойцов и командиров - коммунисты. Подчеркнем: в то время у коммунистов была только одна привилегия: первыми идти на фронт, первыми подниматься в атаку, организовывать партизанское движение и подпольную работу на временно оккупированной территории, а в нашем тылу - нести на себе огромную ношу ответственности и личного трудового примера при тяжелейшей работе по эвакуации предприятий промышленности на восток и скорейшему вводу их в строй. Коммунисты организовывали работу тыла, воспитывали в людях веру в нашу победу. Они вместе со всеми гражданами с честью выполнили эту и массу других задач. Это была напряженная и самоотверженная работа, люди отдавали себя полностью и без остатка, у многих не выдерживало сердце.
 Первый секретарь Московского городского комитета ВКП(б) А.С. Щербаков руководил в суровые военные годы московской партийной организацией, а с июля 1942 года он еще и возглавил ГЛАВПУРККА. Он скончался от обширного инфаркта 10 Мая 1945 года в возрасте 43 лет.
Первый секретарь Московского городского комитета ВКП(б) А.С. Щербаков руководил в суровые военные годы московской партийной организацией, а с июля 1942 года он еще и возглавил ГЛАВПУРККА. Он скончался от обширного инфаркта 10 Мая 1945 года в возрасте 43 лет.
13 октября 1941 г. на собрании актива Московской парторганизации в принятом решении, в частности, говорилось следующее:
"…партийный актив требует от всех коммунистов соблюдения железной дисциплины, решительной борьбы с малейшими проявлениями паники, беспощадной борьбы с трусами, дезертирами, шептунами".
20 октября 1941 г. вводится осадное положение в Москве и в соответствующем постановлении ГКО сказано:
"…нарушителей порядка немедля привлекать к ответственности с передачей суду военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте".
Как выполнялось это постановление? Вот несколько примеров.
За время обороны Москвы по декабрь 1941 года было расстреляно на месте 13 нарушителей, а по приговору военного трибунала - 887. О чем говорят эти цифры? Очевидно, о том, что подобные люди, как правило, задерживались и патрулями, и бойцами истребительных батальонов, и населением, и органами НКВД. Кто были эти нарушители? Это - бандиты и грабители, крупные расхитители социалистической собственности, мародеры, диверсанты, распространители слухов и тому подобные элементы. Мародеры, кстати, орудовали, в основном, во время воздушных тревог. Все защитники Москвы действовали тогда как единый организм.
 Несмотря на то, что в то время враг наводнял Москву агентурой и диверсантами, порядок в Москве был обеспечен. Четко и эффективно действовала комендантско - патрульная служба и милиция.
Несмотря на то, что в то время враг наводнял Москву агентурой и диверсантами, порядок в Москве был обеспечен. Четко и эффективно действовала комендантско - патрульная служба и милиция.
Решительность при проведении этих мер объясняется не только суровой необходимостью военного времени и осадного положения; не только тем, что враг забрасывал в Москву пачками агентов Абвера: диверсантов и шпионов, провокаторов и паникёров; не только тем, что в 1941 году подняли голову все антисоветские элементы (как скрытые, так и явные). Эти элементы решили, что пришло их время свести счёты с советской властью. Эта решительность объясняется главным образом тем, что Советская власть, партия и народ действовали как единый организм, объединенный общей социалистической, патриотической идеей и моралью. Все работали под лозунгами: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! и "Всё для фронта, всё для победы". Советская власть чувствовала за своей спиной мощную поддержку подавляющего большинства народа.
 Хорошо была организована светомаскировка в городе, на крышах зданий дежурили бойцы подразделений местной ПВО, боровшиеся с зажигательными бомбами и пожарами (эти подразделения формировались, в основном, из местного населения, причем, брали только добровольцев). В составе этих подразделений было немало женщин и подростков.
Хорошо была организована светомаскировка в городе, на крышах зданий дежурили бойцы подразделений местной ПВО, боровшиеся с зажигательными бомбами и пожарами (эти подразделения формировались, в основном, из местного населения, причем, брали только добровольцев). В составе этих подразделений было немало женщин и подростков.
После разгрома вермахта под Москвой в 1942 году и окончательного срыва воздушной операции Люфтваффе значительная часть красноармейцев-мужчин из боевых расчетов ПВО Московского корпусного района была направлена на пополнение и укрепление артиллерийских, минометных и стрелковых частей сухопутных войск, которые значительно поредели за счет потерь. Кроме того, уже к этому времени в войска стало поступать вооружение, производимое эвакуированными заводами, формировались новые части. Стали поступать на вооружение новые отечественные РЛС РУС-2 с дальностью обнаружения самолетов до 250 км. Потребовались опытные, обстрелянные и квалифицированные командиры расчетов, наводчики, артиллерийские наблюдатели и корректировщики огня наземной артиллерии, операторы радиолокационных станций и другие военные специальности. Надо подчеркнуть при этом, что более всего этим требованиям отвечали боевые расчеты средств ПВО. Эти расчеты были хорошо слажены и обстреляны, их охотно брали командиры частей сухопутных войск, где они зарекомендовали себя самым наилучшим образом – об этом мы уже рассказали выше. В связи с этим в апреле 1942 года ЦК ВЛКСМ обратился с призывом к девушкам заменить мужчин, ушедших на фронт.
 20 тысяч девушек Москвы откликнулись на этот призыв. Девушки пришли в состав подразделений аэростатов заграждения, прожекторных установок, приборов управления артиллерийским зенитным огнем, постов ВНОС, в орудийные расчеты зенитной артиллерии малого калибра и пулеметов.
20 тысяч девушек Москвы откликнулись на этот призыв. Девушки пришли в состав подразделений аэростатов заграждения, прожекторных установок, приборов управления артиллерийским зенитным огнем, постов ВНОС, в орудийные расчеты зенитной артиллерии малого калибра и пулеметов.
Они были также в составе истребительных батальонов (эти события отражены в фильме Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие). Конечно же, они были и в составе формирований местной ПВО, связисты, медики, спасатели. Представьте себе на минуту, какому огромному риску подвергал себя боец подразделения местной ПВО, находившийся на крыше здания во время авиационного налета и бомбежки (их иногда сбрасывало с крыш взрывной волной). Тяжелая им досталась доля, но они стойко переносили все тяготы и военной службы, и войны.
Быстро и организованно устранялись последствия бомбежек. Аварийно-восстановительной службой руководил заместитель председателя исполкома Моссовета Михаил Алексеевич Яснов. Немцы бросали на Москву не только фугасные бомбы, но и огромное количество зажигательных бомб, стремясь вызвать массовые пожары. Они рассчитывали на то, что Москва, имевшая в то время, в основном, деревянные постройки, заполыхает как свеча. Однако этого не случилось благодаря самоотверженной работе всех служб города, населения и местной ПВО.
При Моссовете была организована служба маскировки, куда вошли архитекторы и художники, под руководством главного архитектора Москвы Д.Н. Чечулина.
 Замаскирован был Кремль, мавзолей В.И. Ленина, Большой театр, Центральный телеграф, военные объекты и предприятия, нефтехранилища, электростанции, городские мосты и вокзалы, водопроводные станции и многое другое.
Замаскирован был Кремль, мавзолей В.И. Ленина, Большой театр, Центральный телеграф, военные объекты и предприятия, нефтехранилища, электростанции, городские мосты и вокзалы, водопроводные станции и многое другое.
Нелегко, например, было замаскировать ГРЭС №1 на Раушской набережной (находится она напротив гостиницы «Россия», недалеко от Кремля). На нее упало 27 фугасных и 500 зажигательных бомб.
Для введения в заблуждение авиации противника на подступах к Москве были построены около 30 ложных объектов, которые приняли на себя 687 фугасных и многие тысячи зажигательных бомб, которые предназначались для Москвы.
Дети и подростки активно помогали взрослым: они заполняли песком мешки и противопожарные ящики, наливали воду в бочки, активно участвовали в борьбе с зажигательными бомбами. Сотни и сотни зажигалок были потушены детьми и подростками: это были ребята 12…15 лет. Известно немало случаев, когда дети этого возраста помогали разоблачать немецких шпионов и диверсантов. Во время второго воздушного налета, 22 июля 1941 года, при обезвреживании крупной зажигательной бомбы с «сюрпризом», погиб 14-летний школьник по имени Казимир, житель района Преображенки. На похороны Казимира пришло более тысячи жителей тогдашнего Сокольнического района. К сожалению, нам не удалось выяснить фамилию этого мальчика.
Бомбардировала немецкая авиация и наш Сокольнический район. Падали бомбы в районе Потешной улицы и Яузского моста, и на Суворовской улице, и на Открытом шоссе, и в Богородском. Немецкие летчики метили в предприятия, производившие военную продукцию. Это был, в частности, и 37 танкоремонтный завод (на бывшей территории этого завода находится сейчас НИИ дальней радиосвязи), и предприятие «Геофизика» на Стромынке и др.
Вообще, очень хорошо описывает тогдашнюю ситуацию в Москве стихотворение советского поэта, участника В.О.В. Николая Старшинова «Прожектор блуждал во мраке».
Оно отражает настроения москвичей в то незабываемое время.

Поспать бы еще немного…
Но слышали москвичи:
Звучала в ночи тревога,
Зенитки били в ночи.
И нас ослепляли вспышки…
И, на подъем легки,
Московских дворов
Мальчишки лезли на чердаки.
Прожектор блуждал во мраке,
Обшаривая небосвод.
Пикировал на бараки
Вражеский самолет.
И если его в потемках
Ловили прожектора,
От нашенских криков громких
Воздух дрожал – «Ура!».
Он падал и за собою
Протягивал дымный след…
И нечего ждать отбоя,
Пока не придет рассвет.
Особо следует сказать о значении Московского метрополитена во время войны. Метро не только важнейшая транспортная артерия города, но и надёжное бомбоубежище, спасшее во время войны жизни сотен и сотен тысяч москвичей и, прежде всего, детей и женщин (всего в защитных сооружениях Москвы можно было укрыть 1 млн.600 тыс. человек). Многие торжественные мероприятия проводились на крупнейших станциях метро (прежде всего - на станции "Маяковская"). В метро работали библиотеки и другие культурно-просветительские учреждения.
Авторы: Игорь Докучаев, Юрий Пищиков, Андрей Куприянов
- 840 просмотров
Стражи неба. Часть 5. Столица борется: жизнь под бомбами

Сегодня нам важно понять, как жили, как работали тогда москвичи, каков был их моральный уровень, независимо от социального положения. Все были тогда едины – трудящиеся предприятий, работники культуры, воины армии и формирований МПВО, артисты московских театров, спортсмены.
Война внесла коренные изменения в жизнь всех жителей Москвы и Подмосковья, от стариков и взрослых до подростков, женщин и детей.
 10-12 часов труда на предприятиях, работа на сооружении оборонительных рубежей на дальних и ближних подступах к Москве, ночные дежурства в командах местной ПВО и многое другое – все это сильно осложняло жизнь москвичей, но вместе с тем закаляло их волю.
10-12 часов труда на предприятиях, работа на сооружении оборонительных рубежей на дальних и ближних подступах к Москве, ночные дежурства в командах местной ПВО и многое другое – все это сильно осложняло жизнь москвичей, но вместе с тем закаляло их волю.
Тогда были едины все, независимо от семейного, социального и материального положения. Так же было и в Ленинграде, и в Сталинграде, и в других городах.
Мы уже писали о роли и задачах истребительных батальонов. К этому можно добавить еще один важный факт. Для борьбы с вражескими десантами, лазутчиками, снабженными ракетницами, с воздушными десантами и для выполнения особых заданий в тылу противника в Москве была сформирована отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН). В первом батальоне – чекисты и работники милиции, во втором – бойцы-интернационалисты, закаленные в боях с фашистами в Испании. В третий и четвертый батальоны зачислили студентов и преподавателей Центрального института физкультуры. Здесь были знаменитые спортсмены, которых советские люди неоднократно видели на стадионах.
 Артисты московских театров, культурная элита страны, также активно участвовали в оборонительных работах, в том числе на сооружении оборонительных рубежей.
Артисты московских театров, культурная элита страны, также активно участвовали в оборонительных работах, в том числе на сооружении оборонительных рубежей.
В октябре 1941 года А.С. Щербаков и В.П. Пронин проверяли ход строительства оборонительных сооружений под Москвой.
В одном из глубоких противотанковых рвов на дне они увидели людей, которые в холоде и грязи, при дожде продолжали рыть землю лопатами. Это были артисты московских театров. Когда им предложили замену, они категорически отказались и заявили, что будут работать до конца, как и все москвичи.
Вот такие были в то время артисты.
Большой Театр с апреля 1941 г. закрылся на капитальный ремонт, который не прерывался во время войны и закончился в сентябре 1943 г. Основная труппа театра была эвакуирована в Куйбышев. Однако часть осталась в Москве и организовала филиал театра. На сцене ГАБТ проводились тренировки и учеба формирований местной ПВО и народного ополчения, куда вступили многие артисты и работники театра. Очень выросло тогда количество людей, пожелавших вступить в ВКП(б), принять на себя долю ответственности за судьбу Отечества. Понимали: на любое трудное дело коммунистов поднимут первыми. В одном строю, плечом к плечу, стояли известные всему миру артисты: Сергей Лемешев, Иван Козловский, Макс Рейзен, Максим Михайлов, Ольга Лепешинская и другие.
 Один из лучших балетных танцоров мирового класса Михаил Габович, отказавшись от брони, стал политруком 1-й роты отдельного истребительного батальона, созданного Свердловским районом столицы.
Один из лучших балетных танцоров мирового класса Михаил Габович, отказавшись от брони, стал политруком 1-й роты отдельного истребительного батальона, созданного Свердловским районом столицы.
В отрядах местной ПВО были известные всем Народные артисты: Николай Охлопков, Сергей Образцов, Игорь Туманов – директор и художественный руководитель муз. театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, кинорежиссер Сергей Юткевич и многие другие.
Шли спектакли в театрах в дневное время, когда налеты были значительно реже, чем ночью. Однако когда случались дневные налеты, и объявлялась воздушная тревога, спектакли прерывались и возобновлялись на другой день с прерванного места.
 Во время третьего налета, в ночь с 23 на 24 июля был разрушен театр им. Вахтангова, погибла группа самозащиты, в том числе парторг театра и политрук формирования местной ПВО, заслуженный артист РСФСР, актер Василий Васильевич Куза. Он погиб во время дежурства, находясь в помещении театра. Его имя навечно записано на мемориальной доске, которая установлена в главном фойе театра, в ряду имен 36 вахтанговцев – тех, кто погиб, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны в составе отрядов народного ополчения и местной ПВО.
Во время третьего налета, в ночь с 23 на 24 июля был разрушен театр им. Вахтангова, погибла группа самозащиты, в том числе парторг театра и политрук формирования местной ПВО, заслуженный артист РСФСР, актер Василий Васильевич Куза. Он погиб во время дежурства, находясь в помещении театра. Его имя навечно записано на мемориальной доске, которая установлена в главном фойе театра, в ряду имен 36 вахтанговцев – тех, кто погиб, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны в составе отрядов народного ополчения и местной ПВО.
Подобные мемориальные доски мы видим и в фойе других московских театров. Фронтовая бригада (филиал театра) вахтанговцев была включена в штатный состав 2-го Украинского фронта приказом командующего генерала Н.Ф. Ватутина. Таких примеров можно привести много.
Артисты московских театров участвовали в боевых действиях войск и в частности, в противовоздушной обороне. Так, еще до войны оперно-драматическая студия им. К. Станиславского взяла шефство над 193-м зенитным артиллерийским полком, которым командовал майор Михаил Кикнадзе. Этот полк прикрывал юго-западный сектор воздушного пространства столицы – один из самых напряженных и ответственных. В сорок первом году, после начала войны, актеры и работники студии, как подлежавшие призыву, так и добровольцы, попросили направить их в этот полк. Артисты Леонидов, Борис Ливанов, Петр Глебов и другие после короткой подготовки стали командирами орудийных расчетов, а некоторые – командирами взводов (Артист Беспалов стал командиром взвода управления на одной из батарей полка). Актрисы Давиденко и Веселова стали санитарными инструкторами на батареях.
 Они также создали полковой ансамбль, который в перерывах между боями посещал огневые позиции батарей. Москва близко, они скучали по театру и Москве, но для них было главное, как и для рядовых бойцов – боевая работа. За два года лишь нескольким актерам-зенитчикам удалось съездить в Москву.
Они также создали полковой ансамбль, который в перерывах между боями посещал огневые позиции батарей. Москва близко, они скучали по театру и Москве, но для них было главное, как и для рядовых бойцов – боевая работа. За два года лишь нескольким актерам-зенитчикам удалось съездить в Москву.
После окончания ремонта Большого театра в сентябре 1943 года первой постановкой в нем была опера «Иван Сусанин». Сталин приказал распределять билеты на эту оперу в первую очередь, строителям-ремонтникам Бол. Театра, рабочим и служащим предприятий, колхозникам, воинским частям. На 193 зенап было выделено 3 билета. Все эти 3 билета командир полка Михаил Геронтович Кикнадзе отдал женщинам – зенитчицам полка. Это еще один образец достойного отношения между советскими людьми и их единства в грозные военные годы.
У двух авторов этой статьи остались и личные впечатления о противовоздушной операции 1941 года.
Из воспоминаний Ю.В. Пищикова
В июне 1941 г. мне было 5,5 лет. Мой отец, коммунист, рабочий московского завода № 5 Метростроя, в первые дни войны добровольцем ушел на фронт. В ноябре 1941 г. мы получили извещение о гибели. Мать осталась одна с двумя маленькими детьми. Мы жили на окраине Москвы - в районе Открытого шоссе (в то время Сокольнический район). Я и сейчас помню налеты вражеской авиации, когда почти каждую ночь (а чаще всего несколько раз за ночь) мы с матерью и младшим братом по сигналу воздушной тревоги бежали в подвал соседнего дома в бомбоубежище. Как сейчас помню темные московские летние ночи, ни огонька вокруг (соблюдалась светомаскировка), только небо подсвечено лучами зенитных прожекторов, пулеметными и пушечными трассами, вспышками от разрывов зенитных снарядов. Падающие с неба осколки, оглушительный грохот стрельбы зенитной артиллерии. Нас, малышей-первоклашек, возили на центральные площади Москвы и к парку культуры им. М. Горького и показывали остатки сбитых немецких бомбардировщиков. Все эти незабываемые события, по-видимому, и явились для меня тем подсознательным толчком к тому, что впоследствии я решил стать офицером-зенитчиком, что и произошло в дальнейшем. Вся моя последующая жизненная деятельность, как в армии, так и в промышленности, была связана с противовоздушной обороной.
***
Из воспоминаний И.Н. Докучаева
Я в этот период был подростком, но, как и многие мои сверстники, трудился с декабря 1941 года в леспромхозе, который изготовлял различного рода деревянные детали и изделия для боевой техники и полевых инженерных сооружений. Если бы вы знали, с какой надеждой на успех нашей армии мы отправляли эти изделия в адрес Москвы! Мы, мальчишки, после слова Москва часто, вопреки правилам, ставили восклицательный знак на маркировке тары. И (до сих пор верю) это было не напрасно. Так же, по-моему, делали на многих предприятиях Советского Союза. Я на железнодорожных грузах не раз видел не наши восклицательные знаки. В этом, считаю, душа нашего русского народа. Отсюда и родилась фраза: «Народ и армия – едины», которую так называемые «демократы» и либералы хотят вычеркнуть из истории страны. Считаю – у них это не выйдет. В особенности, если этого серьезно захотят Верховный Главнокомандующий и Министр обороны РФ, а вместе с ними и Правительство РФ. Как на Руси говорили извечно: «Дай нам бог!».
Когда мы узнали, что из под Москвы немца погнали, мы все считали, что в этом есть и наш маленький вклад.
Подводя итоги Московской битвы, к изложенному выше следует добавить:
 первая большая победа в боях и сражениях Великой Отечественной войны была одержана именно системой ПВО Москвы: единственная оперативно-стратегическая воздушная операция фашистов по разрушению столицы СССР, начавшаяся в ночь на 22 июля 1941 года, в первые же дни была остановлена, а затем безвозвратно сорвана.
первая большая победа в боях и сражениях Великой Отечественной войны была одержана именно системой ПВО Москвы: единственная оперативно-стратегическая воздушная операция фашистов по разрушению столицы СССР, начавшаяся в ночь на 22 июля 1941 года, в первые же дни была остановлена, а затем безвозвратно сорвана.
Немцы понесли колоссальные потери авиации: к окончанию контрнаступления Красной Армии весной 1942 г. – 1392 самолета. Сражаясь в одних рядах с бойцами сухопутных войск, с авиацией ВВС, защитники неба Москвы уничтожили 450 танков, 250 артиллерийских и минометных батарей, около 5000 автомашин и фургонов, а также до 50000 солдат и офицеров врага. Отметим также, что противовоздушная оборона Москвы 1941 года вошла в анналы не только истории Великой Отечественной войны, но и мировой истории военного искусства как образец блестяще проведенной противовоздушной операции по защите крупнейшего столичного города от массированных налётов средств воздушного нападения.
Москва как центр политического, экономического, военного управления была сохранена от разрушения. Это был колоссальный моральный стимул для советского народа – верить в Победу и все сделать для ее достижения.
 Срыв стратегической воздушной операции, а затем полный крах генерального немецкого наступления на Москву – операции «Тайфун», в осуществление которых силы ПВО Москвы внесли неоценимый вклад, обеспечили отказ Японии и Турции от вступления в войну против СССР на стороне Германии.
Срыв стратегической воздушной операции, а затем полный крах генерального немецкого наступления на Москву – операции «Тайфун», в осуществление которых силы ПВО Москвы внесли неоценимый вклад, обеспечили отказ Японии и Турции от вступления в войну против СССР на стороне Германии.
Это – история, написанная кровью наших людей. Из нее ничего не вычеркнешь. Поэтому, говоря о бесспорном героизме и заслугах сухопутных войск в Московской битве, решившей во многом исход всей войны, всегда надо помнить, что неоценимо большой вклад в нее внесли и части Московской зоны (Московского корпусного района) ПВО. Это было незабываемое время, на памяти об этих событиях необходимо воспитывать молодое поколение.
Кроме уже сказанного о вкладе Войск ПВО страны и, прежде всего, системы ПВО Москвы, следует отметить и вклад в военное искусство. Необходимость в начале Московской битвы осуществлять широкий маневр силами и средствами ПВО в интересах Сухопутных войск, для защиты их тылов от ударов с воздуха, отражения в тесном взаимодействии с ними ударов танковых «клиньев» врага, с началом контрнаступления Красной Армии возникли новые ответственные задачи. Кроме прикрытия тылов и коммуникаций – а протяженность их в глубину и по фронту постоянно нарастала – необходимо было обеспечить и противовоздушную оборону освобожденных от фашистов крупных городов и промышленных центров. Структуры отдельно взятых бригадных, дивизионных и корпусных районов ПВО эти задачи согласованно решить не могли. Поэтому 5 апреля 1942 года ГКО принял решение о создании Московского фронта ПВО.
Однако этот вопрос, его реализация и значение будут, кратко, но емко, изложены в последующих публикациях. Отметим лишь, что Великая Отечественная война завершилась 9 Мая 1945 года при наличии четырех фронтов ПВО. Их структуры оправдали себя после Московской битвы.
Авторы: Игорь Докучаев, Юрий Пищиков, Андрей Куприянов
- 1 просмотр
Стражи неба. Часть 7. "EisStoß": как провалился "Ледовый удар""

Нельзя забывать и еще об одной выдающейся операции войск ПВО Ленинградской зоны – срыве немецкого плана по уничтожению кораблей Краснознаменного Балтийского флота.
Во-первых, сразу надо отметить: ни эта, ни предыдущая операции сил ПВО Ленинграда не были спонтанными, только - ответными на операции фашистов. Имея данные воздушной и других видов разведки, командование Ленинградской армии ПВО разгадывало замыслы противника и с большой степенью точности и эффективно заранее принимало меры к срыву готовящихся воздушных операций Люфтваффе.
Вторая противовоздушная операция была проведена силами и средствами ПВО Ленинградской зоны в апреле 1942 года. В марте 1942 года, сразу же после тяжелейшей блокадной зимы, немецкая авиация резко усилила разведывательные действия в районе Ленинграда и особенно той части реки Невы, где стояли вмерзшие в лед корабли Краснознаменного Балтийского флота.
 Как стало известно позже, еще в начале 1942 года, после неудачной попытки захватить Ленинград с ходу, рейхсфюрер Геринг доложил Гитлеру о наличии возможности уничтожения кораблей Балтийского флота, являвшихся мощной огневой силой и бивших по немецким войскам своей крупнокалиберной артиллерией.
Как стало известно позже, еще в начале 1942 года, после неудачной попытки захватить Ленинград с ходу, рейхсфюрер Геринг доложил Гитлеру о наличии возможности уничтожения кораблей Балтийского флота, являвшихся мощной огневой силой и бивших по немецким войскам своей крупнокалиберной артиллерией.
Эта артиллерия наносила врагу огромные потери и сорвала немало попыток вермахта прорваться к Ленинграду штурмом (достаточно вспомнить попытку прорыва через Пулковские высоты осенью 1941 года).
В феврале в штаб гитлеровского 1-го авиационного корпуса поступил приказ: «Перед самым вскрытием льда в Финском заливе уничтожить массированным налетом бомбардировщиков под прикрытием истребителей главные боевые силы русского флота».
Гитлер утвердил этот замысел Геринга и поручил командованию группы армий «Север» провести эту операцию, которая получила кодовое наименование «Айсштосс» (ледовый удар). Смысл этой операции - уничтожение с воздуха кораблей Балтийского флота, вмерзших в лед на Неве и в порту Финского залива во время суровой зимы. К этой операции вражеская эскадра готовилась тщательно. Для этого немцы имитировали ситуацию под Ленинградом на своем полигоне. На одном из замерзших озер в натуральную величину были воспроизведены макеты боевых кораблей Балтийского флота. Их неоднократно бомбили и штурмовали самолеты 1-го воздушного флота, а именно – 1-го воздушного корпуса Люфтваффе.
 22 марта командиру корпуса генералу Гельмуту Фёрстеру была поставлена задача – уничтожить главные силы Балтийского флота до вскрытия льда в Финском заливе.
22 марта командиру корпуса генералу Гельмуту Фёрстеру была поставлена задача – уничтожить главные силы Балтийского флота до вскрытия льда в Финском заливе.
4 апреля 1942 года в 18 часов 05 минут большая группа самолетов была обнаружена радиолокационной станцией «Редут» еще за 115 км от Ленинграда. Так что внезапности удара у фашистов не получилось. А всего в налете участвовало девять групп в составе 100 бомбардировщиков в сопровождении истребителей прикрытия.
Одновременно противник начал вести из дальнобойных орудий массированный интенсивный обстрел огневых позиций нашей зенитной артиллерии и взлетно-посадочных полос истребительной авиации.
Налет люфтваффе был дерзкий, весьма изобретательный: днем, на высоте 1000…1200 метров. Расчет был на неожиданность и на отсутствие днем аэростатов заграждения. Немецкие самолеты шли эшелонами и на разной высоте. Была объявлена «воздушная тревога», в городе завыли сирены. Наши истребители и зенитчики успели встретить эту армаду и частично ее рассеяли. Но 58 немецких бомбардировщиков все-таки прорвались в небо Ленинграда.
 Над городом, снизившись, они разошлись по заранее намеченным целям и начали бомбардировку кораблей. Корабельная зенитная артиллерия и пулеметы ударили ответным огнем, не подпуская немецкие самолеты. С крыш близлежащих домов открыли огонь зенитные пулеметы и орудия малого калибра.
Над городом, снизившись, они разошлись по заранее намеченным целям и начали бомбардировку кораблей. Корабельная зенитная артиллерия и пулеметы ударили ответным огнем, не подпуская немецкие самолеты. С крыш близлежащих домов открыли огонь зенитные пулеметы и орудия малого калибра.
Оценив обстановку, командир 2-го корпуса ПВО генерал-майор Г.С. Зашихин за несколько минут до этого налета отдал приказ: «Поднять аэростаты!». Поднять аэростаты засветло, днем? Такого еще не бывало. Стервятники оказались в ловушке и, сбросив остатки бомбового груза, большая часть которого упала на лед, в воду залива, стали «выходить» из города, попав при этом в зону эффективного огня зенитной артиллерии. Артиллеристов-зенитчиков поддержали истребители.
Результаты этого боя изложены в историческом формуляре 2-го корпуса ПВО:
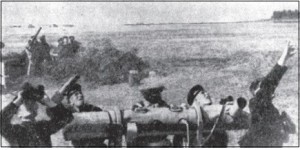 «Масса зенитного огня заставила самолеты противника метаться из стороны в сторону и сбрасывать бомбы куда попало…». И далее из формуляра: «Для отражения налета было поднято 22 наших истребителя, которые вели бои вне зоны огня зенитной артиллерии… В результате воздушных боев истребители сбили 6 и подбили 1 самолет противника, потеряв при этом один свой самолет. Огнем зенитной артиллерии уничтожено 19 и подбито 9 вражеских самолетов. Всего за налет немцы потеряли сбитыми 25 и подбитыми 10 самолетов».
«Масса зенитного огня заставила самолеты противника метаться из стороны в сторону и сбрасывать бомбы куда попало…». И далее из формуляра: «Для отражения налета было поднято 22 наших истребителя, которые вели бои вне зоны огня зенитной артиллерии… В результате воздушных боев истребители сбили 6 и подбили 1 самолет противника, потеряв при этом один свой самолет. Огнем зенитной артиллерии уничтожено 19 и подбито 9 вражеских самолетов. Всего за налет немцы потеряли сбитыми 25 и подбитыми 10 самолетов».
К кораблям пробились из 100 машин врага менее половины самолетов, сбросили 230 фугасных бомб, из которых лишь 70 легли вблизи кораблей, но – не на корабли! Остальные бомбы упали на лед залива.
В ночь на 5 апреля фашисты повторили налет силами 18 самолетов. К кораблям из них не прорвался ни один. Немецкая атака была сломана, внезапность операции «Айсштосс» сорвалась.
Понеся такие потери, немецкое командование было вынуждено провести перегруппировку сил авиации, для чего, естественно, требовалось время. Вскоре наша воздушная разведка показала, что на аэродроме в Красногвардейске сосредоточилось большое количество вражеских самолетов. С какой целью, было ясно.
15 апреля наши летчики нанесли по этому аэродрому упреждающий удар силами в 11 истребителей. Несмотря на сильное зенитное противодействие, советские летчики сожгли 10 самолетов, 10 сильно повредили, один истребитель был сбит на взлете и еще один – в воздушном бою.
И снова фашистам потребовалось почти 10 дней, чтобы восстановить боеспособность своих потрепанных эскадр. Поэтому повторный налет на корабли КБФ был совершен только 24 апреля, силами до 70 бомбардировщиков.
Общий итог боя на этот раз составил 20 сбитых и 14 подбитых бомбардировщиков.
25 апреля – вновь налет свыше 60 бомбардировщиков. Их, как и раньше, прикрывали истребители. И снова – жесточайшая схватка, в ходе которой уничтожено 15 вражеских самолетов. 27 и 30 апреля немецкая авиация совершила свои последние налеты на корабли КБФ. В первом из этих двух налетов враг потерял 10 и во втором 1 из всего лишь трех прорвавшихся к городу.
 Таким образом, итог операции «Айсштосс» для фашистов оказался плачевным. В ее ходе оказалось лишь одно прямое попадание в линкор «Октябрьская революция», получил повреждения от близких разрывов с правого борта крейсер «Киров», мелкие осколочные пробоины имелись на эсминцах «Сильный и «Гремящий».
Таким образом, итог операции «Айсштосс» для фашистов оказался плачевным. В ее ходе оказалось лишь одно прямое попадание в линкор «Октябрьская революция», получил повреждения от близких разрывов с правого борта крейсер «Киров», мелкие осколочные пробоины имелись на эсминцах «Сильный и «Гремящий».
Эта операция еще раз продемонстрировала возможность блестящего проведения боевых действий силами и средствами ПВО благодаря взаимодействию всех видов вооружения и родов войск. Она также вошла в историю как классический образец военного искусства. С 7 апреля 1942 года 2-й корпус был преобразован в Ленинградскую армию ПВО.
Еще характерный пример, заслуживающий внимания. Изобретательно и инициативно действовали и моряки КБФ, и летчики, и зенитчики, в том числе и воины аэростатных подразделений. Не случайно немцы специально охотились за аэростатами. С помощью аэростатов заграждения суровой зимой 1942 года была поднята на высоту 300…400 м антенна радиопередатчика, вещавшего на всю страну из осажденного Ленинграда. Это было необходимо не только для обеспечения связи командования Ленинградского фронта со ставкой Верховного Главнокомандования, но и как доказательство стойкости защитников города. Ольга Берггольц часто выступала по радио, своими стихами укрепляя боевой дух и стойкость ленинградцев.
 9 августа 1942 года из концертного зала Ленинградской филармонии транслировалась не только на всю страну, но и на всю Европу седьмая симфония Д. Шостаковича как символ несдающегося и непобежденного Ленинграда. Эта передача велась с помощью кабель-антенны, поднятой аэростатом заграждения у Буддийского храма, находящегося в парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова.
9 августа 1942 года из концертного зала Ленинградской филармонии транслировалась не только на всю страну, но и на всю Европу седьмая симфония Д. Шостаковича как символ несдающегося и непобежденного Ленинграда. Эта передача велась с помощью кабель-антенны, поднятой аэростатом заграждения у Буддийского храма, находящегося в парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова.
Когда немецкое командование по необычной тишине в городе догадалось, что на всю страну транслируется седьмая симфония Шостаковича, оно приказало открыть сильнейший артиллерийский огонь по центру города. Командир контрбатарейного корпуса полковник Н.Н. Жданов вместе с командованием Балтийского флота и фортами Кронштадта организовали сосредоточенный ответный массированный огонь по вражеским батареям. Немцы не смогли сорвать этот, несомненно, вошедший в историю концерт, который слушали все города Советского Союза и за рубежом.
Все это - лишь отдельные, изложенные скупо факты того вклада, который совершили воины ПВО и защитники Ленинграда, в период 900-дневной блокады и всей войны против жестокого врага – фашистской Германии, что спасло город от захвата, разрушения и уничтожения его жителей «голодом и холодом».
Авторы: Игорь Докучаев, Юрий Пищиков, Андрей Куприянов
- 1 просмотр
Стражи неба. Часть 8. Бои над Сталинградом

Сталинградское сражение - одно из самых важных в ходе Великой Отечественной войны. В результате неудачного для советских войск исхода операций на Воронежском направлении и в Донбассе, а также выдвижения крупных сил гитлеровской армии в большую излучину Дона, создавалась реальная угроза прорыва врага к Волге и на Северный Кавказ. В ходе наступления 1942 года на юго-восточном направлении, Вермахт планировал захват и уничтожение городов: Сталинград, Саратов, Куйбышев, Ярославль, железнодорожных узлов и переправ, примыкающих к ним, т.е. преследовал цель – оторвать Европейскую часть от остальной территории Советского Союза.
 Отсюда следует, что по-прежнему конечным результатом планируемой гитлеровцами стратегической операции был захват Москвы посредством её обхода с юго-востока и последующего окружения. Однако, кроме того, прорыв через Волгу к названным городам нес в себе глубокое экономическое и политическое содержание: во-первых, он лишал Советский Союз использования Нижнего Поволжья как важнейшего сельскохозяйственного региона, что после потери Украины могло приблизить страну к продовольственной катастрофе, и отрезал пути обеспечения нефтью Кавказа как Красной Армии, так и народного хозяйства СССР.
Отсюда следует, что по-прежнему конечным результатом планируемой гитлеровцами стратегической операции был захват Москвы посредством её обхода с юго-востока и последующего окружения. Однако, кроме того, прорыв через Волгу к названным городам нес в себе глубокое экономическое и политическое содержание: во-первых, он лишал Советский Союз использования Нижнего Поволжья как важнейшего сельскохозяйственного региона, что после потери Украины могло приблизить страну к продовольственной катастрофе, и отрезал пути обеспечения нефтью Кавказа как Красной Армии, так и народного хозяйства СССР.
А во-вторых, гитлеровцы учли и то, что Сталинград – название, связанное с именем вождя народов СССР (пусть «демократы» не изгаляются над именем И.В. Сталина, в особенности молодые, знающие историю прескверно и пороха не нюхавшие) – его падение было бы колоссальным моральным ударом по существовавшему в те годы мировоззрению и убеждениям советских людей.
Что касается соотношения сил воюющих сторон вообще, и сил ПВО и Люфтваффе в частности, то в первом периоде войны (до 19 ноября 1942 года) преимущество, бесспорно, было на стороне Германии. Лишь величайшее мужество, до самопожертвования, бойцов и командиров Красной Армии, основанное на любви и преданности своей Родине, приводило к срыву замыслов и действий фашистов. Всеобщим стало убеждение: «И один в поле – воин!». Такого не знала, да и сейчас не знает ни одна армия мира.
Уже 17 июля 1942 г. начались оборонительные бои на дальних подступах к Сталинграду. Противнику удалось прорвать нашу оборону, и его подвижные части вышли к Дону. Враг стремился с ходу захватить Сталинград, но этот замысел гитлеровскому командованию осуществить не удалось. Несмотря на ожесточенные бомбардировки и танковые прорывы, наши войска дрались до последнего патрона.
К сожалению, до Великой Отечественной войны противовоздушная оборона Сталинграда и других названных городов не планировалась. Считалось, что если будет война, то мы переведем ее на территорию противника. В ходе войны советское командование в срочном порядке сформировало и укрепило ПВО этих городов, создало огневые и авиационные группировки, придав им также аэростаты заграждения. Защиту Сталинграда с воздуха осуществлял и Сталинградский корпусной район ПВО, и 102 ИАД.
 Командующим корпусным районом ПВО до конца Сталинградской обороны был воспитанник Московской ПВО, бывший командир 251 зенап полковник Е. Райнин.
Командующим корпусным районом ПВО до конца Сталинградской обороны был воспитанник Московской ПВО, бывший командир 251 зенап полковник Е. Райнин.
К июлю 1942 года в состав корпусного района вошли: 7 зенитных артиллерийских полков среднего калибра, 2 зенитных артиллерийских полка малого калибра, 12 отдельных зенитных артиллерийских дивизионов, 6 зенитных бронепоездов, 2 отдельных зенитных пулеметных батальона, 7отдельных зенитных пулеметных рот и 19 отдельных зенитных пулеметных взводов, зенитный прожекторный полк, отдельный дивизион аэростатов заграждения, 6 отдельных батальонов ВНОС и отдельный батальон связи. 102 ИАД ПВО вошла в оперативное подчинение Сталинградского корпусного района.
Кроме основной задачи по прикрытию Сталинграда от налетов воздушного противника, 102 истребительная авиадивизия обеспечивала и прикрытие Астрахани, железнодорожных и водных путей сообщения, находившихся на территории корпусного района ПВО. Одновременно части 102 ИАД выполняли задачи фронтовой истребительной авиации: прикрывали наши наземные войска на поле боя и на переправах, сопровождали бомбардировщиков и штурмовиков, наносили штурмовые удары по наземным войскам противника.
 Зенитная артиллерия по своим боевым задачам обеспечивала круговое прикрытие объектов Сталинграда и уничтожала вражескую авиацию на ближних подступах к городу и над ним. Зенитная артиллерия среднего калибра составляла основу противовоздушной обороны города. Подобно тому, как и в Московской зоне ПВО, были созданы семь боевых секторов, в каждом из которых располагался полк среднего калибра, а некоторые сектора усиливались отдельными зенитными артиллерийскими дивизионами.
Зенитная артиллерия по своим боевым задачам обеспечивала круговое прикрытие объектов Сталинграда и уничтожала вражескую авиацию на ближних подступах к городу и над ним. Зенитная артиллерия среднего калибра составляла основу противовоздушной обороны города. Подобно тому, как и в Московской зоне ПВО, были созданы семь боевых секторов, в каждом из которых располагался полк среднего калибра, а некоторые сектора усиливались отдельными зенитными артиллерийскими дивизионами.
К 1 августа глубина наблюдения системы ВНОС в западном направлении вследствие продвижения противника сократилась с 250 до 50 км. Время упреждения оповещения сократилось до 10-18 минут. А при подходе войск противника к окраинам Сталинграда посты ВНОС вообще пришлось разместить на крышах наиболее высоких зданий.
Ход боевых действий войск Сталинградского корпусного района ПВО складывался в соответствии с наземной и воздушной обстановкой. В первоначальный период битвы, до 23 августа, когда шли упорные бои с наземным противником на дальних подступах к Сталинграду, немецкая авиация главным образом вела усиленную разведку вдоль основных железнодорожных магистралей, с попутной их бомбардировкой. Вот такой была обстановка до непосредственного начала боев за Сталинград.
Часто приходилось слышать вопросы: почему средства ПВО не смогли обеспечить защиту Сталинграда с воздуха и в городе были такие сильные разрушения, почему так мало поступало вооружения в Сталинград летом 1942 года, да и много других «почему». Напомним, что Сталинград был связан с «Большой Землей», откуда поступали подкрепления, боеприпасы, вооружение и др., всего лишь одной железнодорожной веткой, которая находилась под постоянным наблюдением и прицелом Люфтваффе. На каждой станции у немцев были агенты Абвера (а мы знаем с вами, как немцы наводняли своей агентурой не только города, но и ж/д станции). Как только на станцию прибывали эшелоны с военными грузами (а там были и зенитные орудия), эти агенты информировали немецкое командование, и вскоре следовал налет немецкой авиации. Эшелоны подвергались ожесточенной бомбежке. Уже тогда было установлено, что эффективность действий немецкой авиации при ударах по железнодорожным коммуникациям, не имеющим противовоздушного прикрытия, составляет 27…30%. А при наличии прикрытия эта эффективность резко снижается – до 5…7%. Так что часть зенитных средств уничтожалась, не дойдя до своих позиций.
Поэтому для обороны воинских эшелонов и их огневого прикрытия, а также мест разгрузки, действовала и истребительная авиация ПВО, и зенитные платформы в составе каждого эшелона (по одной в голове и хвосте). Были созданы специальные зенитные бронепоезда, курсировавшие по железной дороге. И число их в ходе битвы постоянно наращивалось, их расчеты приобретали боевой опыт. Напомним: перед началом оборонительных боев их было шесть, а к концу Сталинградской битвы их число доведено до 40! Даже новые орудия, направлявшиеся на Сталинградский фронт с заводов, грузились на платформы в боевом положении, с боекомплектом и боевым расчетом (конечно, только зенитные пулеметы и орудия малого калибра). Все это способствовало возмещению потерянных в боях зенитных орудий и пулеметных установок.
Конечно, не только этим определялись сильные разрушения города. Быстрое продвижение немецких войск к Сталинграду, наличие у их артиллерии механической тяги (ведь они конфисковали автотранспорт во всех завоеванных странах Европы) позволило уже в начале августа начать его обстрел дальнобойной артиллерией. Кроме того, глубина города с запада на восток – небольшая, ибо он, главным образом, сильно вытянут с севера на юг по правому берегу Волги.
 Немцы обычно использовали свою излюбленную тактику: нанесение прицельных бомбовых ударов с малых высот. Но это только при отсутствии зенитного артиллерийского и пулеметного огня. Первые бомбардировочные налеты на Сталинград неприятель предпринял в конце июля группами в 20…45 самолетов на высотах 2000…5000 метров.
Немцы обычно использовали свою излюбленную тактику: нанесение прицельных бомбовых ударов с малых высот. Но это только при отсутствии зенитного артиллерийского и пулеметного огня. Первые бомбардировочные налеты на Сталинград неприятель предпринял в конце июля группами в 20…45 самолетов на высотах 2000…5000 метров.
Эти налеты совершались эпизодически, и зенитная артиллерия сравнительно легко отражала их, не давая немцам сбрасывать бомбы на обороняемые объекты. В этот период в весьма сложных условиях пришлось действовать истребителям 102 истребительной авиадивизии.
Вражеская авиация имела большие количественные и качественные преимущества и абсолютно господствовала в воздухе, особенно до прибытия нашей 8-й воздушной армии в начале августа. Немцы бросили под Сталинград свои лучшие эскадры – группу Геринга, истребителей ПВО Берлина, 52-ю истребительную эскадру асов, на вооружении которых имелись новейшие марки истребителей типа «Мессершмитт-109, 110» и их модификации. Летный состав противника имел большой опыт воздушных боев.
Большинство же частей 102-й дивизии имели на вооружении устаревшие типы самолетов И-15, И-16 и И-153, а летчики впервые участвовали в воздушных боях. Поэтому поначалу их боевая деятельность была малоэффективной. Так, например, в июле дивизия провела всего 47 воздушных боев, при этом сбила только 17 самолетов противника. К сентябрю она уже провела 440 воздушных боев и уничтожила 329 самолетов противника. Потери дивизии составили 128 самолетов. В ноябре, что к тому времени было вполне обоснованно, она обороняла, главным образом, пути сообщения и ж/д объекты за Волгой, а также переправы через нее для доставки подкреплений сражавшимся в городе 62 и 64 армиям.
 Поэтому, подчеркнем, при противовоздушной обороне непосредственно Сталинграда основную роль играла зенитная артиллерия, которая вела непрерывные круглосуточные бои с воздушным и наземным противником, прежде всего на правом берегу Волги.
Поэтому, подчеркнем, при противовоздушной обороне непосредственно Сталинграда основную роль играла зенитная артиллерия, которая вела непрерывные круглосуточные бои с воздушным и наземным противником, прежде всего на правом берегу Волги.
Самые ожесточенные бои за город и массированные воздушные налеты начались с 23 августа 1942 года. На рассвете немецкие 16-я танковая и 3-я моторизованная дивизия в составе 200 танков и более 300 автомашин с пехотой, внезапно форсировав Дон в районе западнее хутора Вертячий, начали стремительное продвижение на Сталинград, стремясь с ходу ворваться в город с севера. Появление противника с этого направления считалось маловероятным, поэтому здесь не было не только каких-либо серьезных укреплений, но и наземных частей. В результате батареи 1077-го зенитного артполка, расположенные в первом боевом секторе, оказались один на один с врагом. Днём колонна фашистских танков вышла к рубежу обороны 4-й и 5-й батарей полка. Завязалась смертельная схватка.
Получив донесение с наблюдательного пункта о появлении танков, командир 4-й батареи старший лейтенант Н.С. Скакун приказал выдвинуть первое и второе орудия на специальные площадки, заблаговременно подготовленные для противотанковой обороны, и усилить наблюдение. Вскоре появилась колонна танков, и батарея открыла по ней огонь. Сразу же была уничтожена одна машина, за ней вторая, а потом задымилась третья. Фашисты открыли ответный огонь. И в это время с неба на зенитчиков обрушились самолеты. Пришлось двумя орудиями отбиваться от наседавших «Юнкерсов», а двумя драться с танками.
Под огнем противника таяли ряды зенитчиков. Вот уже комиссар батареи младший политрук И. Киселев и заместитель командира батареи лейтенант Е. Дерий встали к орудиям, заменив выбывших из строя заряжающего и наводчика. Полтора часа шел неравный бой с фашистскими танками и авиацией, но батарея выиграла его, не пропустив противника к городу. За это время 4-я батарея сбила 2 самолета, уничтожила 18 танков и 8 автомашин с пехотой противника.
Такой же бой выдержала и 5-я батарея этого полка под командованием старшего лейтенанта С. Черного и младшего политрука Б. Букарева. Когда батарея отразила очередной налет бомбардировщиков, из штаба полка сообщили о приближении танковой колонны. Коммунисты успели накоротке провести партийное собрание. Они обратились к личному составу батареи с призывом: «Ни шагу назад, драться с врагом до последнего снаряда, до последнего вздоха!». Их призыв молнией облетел боевые расчеты. А через несколько минут на подходе к батарее показались до 80 танков с автоматчиками. При подходе танков на прицельную дальность заговорили наши орудия. Первыми же выстрелами был подбит головной танк, а второй загорелся. Другие танки развернулись и, ведя огонь с ходу, попытались обойти батарею с флангов. В это время в воздухе появились вражеские самолеты и засыпали огневую позицию батареи бомбами. Но ни бомбы, ни снаряды не смогли сломить волю советских бойцов. Остался на позициях старший лейтенант С. Черный, получивший контузию от разрыва бомбы. Примеру своего командира последовали тяжелораненые зенитчики Н. Чаусовский, Г. Кодев и Ю. Халфин. На подступах к огневой позиции в результате боя замерли 15 исковерканных танков, валялись обломки двух самолетов и десятки трупов фашистских солдат.
Днем в бой вступила 6-я батарея под командованием старшего лейтенанта М. Рощина. Фашисты намеревались с ходу раздавить наши орудия. Но зенитчики, подпустив их на 700 метров, открыли меткий интенсивный огонь. Первыми же выстрелами они подожгли 3 танка, через несколько минут запылали ещё 5. Точно посылал снаряды в цель ефрейтор И. Маркин. Метким огнем он сбил самолет Хе-111, поджег 6 танков и 2 автомашины. Мужественно отражая яростные атаки врага в течение полутора часов, батарея уничтожила 18 танков и 3 автомашины с пехотой. И только после того как все орудия вышли из строя, воины оставили огневую позицию.
Танки противника после сосредоточения возобновили наступление тремя колоннами в направлении на Сталинград, при этом третья колонна – в направлении на Сталинградский тракторный завод. Они были встречены огнем батарей 1077-го зенитного артполка. Упорная борьба продолжалась весь вечер 23 и утро 24 августа. Только к 12 часам дня неприятелю удалось овладеть огневыми позициями 7-й батареи, которая под командованием лейтенанта А. Шурина дралась до последнего снаряда и до последнего человека. Батарея уничтожила 9 танков и до 80 автоматчиков противника.
Колонну танков и до 100 машин с мотопехотой, на подступах к тракторному заводу отбивали батареи 5-го и 1-го дивизионов. Тяжелое положение создалось на участке 3-й батареи 1-го дивизиона, принявшей на себя основной удар 70 танков. В бой с ними вступили 2 орудия, а другие отражали «хейнкелей», бомбардировавших огневую позицию. Смертельно ранен командир батареи старший лейтенант Г. Гойхман. Его заменил лейтенант И. Кошкин. Ему оторвало кисть руки, но он продолжал командовать. Противнику удалось разбить 3 орудия, но зенитчики продолжали метко разить врага из уцелевшей пушки. К вечеру немецкие автоматчики просочились в тыл и стали окружать защитников этого рубежа. Зенитчики заняли круговую оборону. Утром 24 августа по приказу командира полка на помощь батарее прибыла команда и при поддержке соседних батарей они оттеснили фашистов. Кольцо окружения было прорвано, батарея перешла на новую огневую позицию. За день 23 августа батарея сбила 4 вражеских самолета, уничтожила 14 танков, одну минометную батарею и до 80 фашистских солдат и офицеров.
В этом бою героически погиб командир 1-го дивизиона старший лейтенант Л. Доховник. Окруженный танками врага вместе с расчетом командного пункта, он вызвал огонь батарей на себя. Танки противника были уничтожены. Но погибла и горстка храбрецов.
 Таким образом, 1077 зенитный артполк под командованием подполковника В. Германа 23 августа отражал удар танковой и моторизованной дивизий противника, прорвавшихся к северной окраине Сталинграда. Полк вел борьбу с неприятелем один на один, без поддержки полевых войск. Героическими усилиями зенитчики в этот день задержали продвижение противника и сорвали его попытку с хода ворваться в город. За два дня упорных боев, 23 и 24 августа, полк уничтожил и подбил 83 танка, 15 автомашин с пехотой, 2 цистерны с горючим, истребил свыше 3 батальонов пехоты и сбил 14 самолетов противника. К тракторному заводу немцы не прорвались.
Таким образом, 1077 зенитный артполк под командованием подполковника В. Германа 23 августа отражал удар танковой и моторизованной дивизий противника, прорвавшихся к северной окраине Сталинграда. Полк вел борьбу с неприятелем один на один, без поддержки полевых войск. Героическими усилиями зенитчики в этот день задержали продвижение противника и сорвали его попытку с хода ворваться в город. За два дня упорных боев, 23 и 24 августа, полк уничтожил и подбил 83 танка, 15 автомашин с пехотой, 2 цистерны с горючим, истребил свыше 3 батальонов пехоты и сбил 14 самолетов противника. К тракторному заводу немцы не прорвались.
Одновременно, вечером 23 августа, 4-й воздушный флот противника, имевший в своем составе 1430 самолетов, из которых 780 – бомбардировщики, обрушил всю мощь авиационного удара на Сталинград. От тяжелых бомбовых ударов город горел. Фашисты стремились утопить город в крови, вызвать панику среди населения, дезорганизовать управление войсками, а затем овладеть городом. Налеты и бомбометание шли днем и ночью. Но стойкость, выдержка и героизм защитников города были беспредельны. Рабочие продолжали делать и ремонтировать танки и пушки, которые прямо с завода направлялись на передний край.
В рядах защитников Сталинграда стойко дрались с врагом и летчики-истребители, и зенитчики. Только 23 августа истребители 8-й воздушной армии и 102 ИАД ПВО провели над городом более 25 групповых боев и сбили 90, а зенитчики 30 немецких самолетов.
Наибольшую активность авиация противника проявляла, как правило, на рассвете и во второй половине дня. Об ожесточенности бомбардировок говорят такие цифры: с 1 июля по 1 ноября 1942 года на каждый гектар площади Сталинграда фашисты сбросили в среднем около 20 фугасных бомб, а на каждый гектар территории заводской части города – 50 фугасных бомб; кроме того, как и над Москвой, сбрасывалось огромное количество зажигательных бомб. Это – не считая тысяч снарядов, обрушенных на город артиллерией врага.
 В целом над территорией Сталинградского корпусного района ПВО с июля по декабрь 1942 года было зафиксировано 77465 самолето-полетов авиации противника, что составляло более половины всех самолето-полетов, отмеченных за это время над всей территорией, прикрывавшейся Войсками ПВО страны.
В целом над территорией Сталинградского корпусного района ПВО с июля по декабрь 1942 года было зафиксировано 77465 самолето-полетов авиации противника, что составляло более половины всех самолето-полетов, отмеченных за это время над всей территорией, прикрывавшейся Войсками ПВО страны.
На участках главного удара противника его авиация стремилась подавить сопротивление наших войск и создать коридоры в их обороне для расчленения Советских войск и прорыва к Волге, к переправам. Для этого немецкое командование бросало по нескольку сот самолетов на участки шириной до 5 км и глубиной 10…15 км, которые в течение 10…12 часов производили непрерывные налеты. Бомбометание производилось, как правило, с пикирования под углом до 70о и выходом из пике на высоте 1000 м…600 м.
Если разведка противника устанавливала отсутствие или слабость противовоздушной обороны объектов или войск, то бомбардировка производилась группами от 3-х до 30 самолетов с высоты 1500…2000 м. Самолеты из кильватерной колонны становились над целью в круг и, пикируя до высоты 500…300 м по одному или парами, сбрасывали бомбы с двух – трех заходов. Израсходовав весь запас бомб, самолеты включали сирены и с воем пикировали вхолостую. Стрельба зенитной артиллерии среднего калибра по самолетам, идущим по кругу, была затруднена, так как ПУАЗО для ведения огня по таким целям не были приспособлены.
Не считаясь ни с какими потерями, фашисты рвались к Сталинграду. Зенитная артиллерия корпусного района ПВО мужественно отражала все налеты вражеской авиации и яростные танковые атаки, нанося врагу огромный урон. Как и под Москвой и Ленинградом, враг весьма ощутимо чувствовал силу и эффективность огня зенитчиков при отражении атак танков и пехоты.
Тяжелое положение создалось в 4-м секторе, на участке 748 зенитного артполка. 30 августа противник вплотную подошел к его боевым порядкам, сосредоточив на двух направлениях до 250 танков и до полка пехоты. Одновременно на огневую позицию 4 батареи обрушился огонь артиллерии врага и налет авиации. Такая же тяжелая обстановка сложилась и в районах, где занимали огневые позиции 5-я батарея, 11-я батарея. 3 сентября во второй половине дня десятки танков вышли из балки Ежовая и попытались нанести внезапный удар вдоль шоссе, мимо жел./дор. станции Садовая с целью прорыва к центральной части Сталинграда. Лавина танков с ходу раздавила 4-ю батарею 748 зенитного артполка и устремилась вперед.
Но здесь стальная лавина напоролась на другие батареи полка и поставленные в засаду противотанковые орудия полевой артиллерии. Потери противника были весьма ощутимы: 37 горящих танков. Это вынудило его отойти назад, в балку Ежовая.
 Противник, неся огромные потери в самолетах и танках от зенитных батарей, выслеживал их и стремился уничтожать в первую очередь. С этой целью фашисты одновременно бросали на огневые позиции пикирующие бомбардировщики и обрушивали на них минометный и артиллерийский огонь. А немецкие автоматчики, просачиваясь в тыл, стремились окружать и выводить из строя личный состав.
Противник, неся огромные потери в самолетах и танках от зенитных батарей, выслеживал их и стремился уничтожать в первую очередь. С этой целью фашисты одновременно бросали на огневые позиции пикирующие бомбардировщики и обрушивали на них минометный и артиллерийский огонь. А немецкие автоматчики, просачиваясь в тыл, стремились окружать и выводить из строя личный состав.
С выходом фашистских войск на непосредственные подступы к городу зенитная артиллерия Сталинградского корпусного района ПВО, находившаяся на правом берегу Волги, переключилась на противотанковую оборону. С левого берега на усиление противотанковой обороны туда было переброшено ещё 6 батарей среднего калибра. Прикрывая танкоопасные направления, зенитчики не прекращали борьбы и с воздушным противником.
В целях успешного выполнения задач по обороне войск, тыла фронта и объектов железнодорожных коммуникаций в Сталинградском корпусном районе ПВО были созданы оперативные группы. Для прикрытия войск 64-й армии была создана южная оперативная группа, включавшая 91 орудие среднего и 24 орудия малого калибров. Оперативная группа по прикрытию переправ южнее города имела 22 зенитных орудия среднего и 16 орудий малого калибров, 20 орудий системы ШВАК и зенитные пулеметы. Для обороны железнодорожных участков за Волгой были выделены зенитные бронепоезда, отдельные батареи среднего и малого калибров и истребительные авиационные полки 102 ИАД, которые действовали с аэродромов Баскунчак и Эльтон. Кроме того, были выделены оперативные группы для противовоздушной обороны городов Астрахань и Гурьев.
По указанию командования фронта из зенитных частей корпусного района ПВО для борьбы с танками были созданы две подвижные маневренные группы. Одна группа включала 6, другая – 5 батарей среднего калибра, которые, учитывая опыт создания подобных групп в битве под Москвой, были обеспечены автомашинами и группами огневого прикрытия из личного состава, вооруженного автоматами и пулемётами. Такие усиленные группы действовали в полосах обороны армий, успешно отражая атаки пехоты и танков противника, и в случае необходимости быстро перебрасывались с одного участка на другой. Для борьбы с маловысотными целями и пикирующими самолетами группы имели зенитные орудия малого калибра и зенитные пулеметы.
Надо отметить, что успешно боролись с танками и пехотой не только орудия среднего, но и орудия малого калибра. Если 85-мм зенитная пушка уничтожала любой танк противника на предельной дальности, то малокалиберное 37-мм орудие, обладая высокой скорострельностью трассирующими бронебойными снарядами, хотя и не могло пробить лобовую броню танка, вело огонь по смотровым щелям, по гусеницам, по сочленениям башни с корпусом танка. Иначе говоря, эта пушка останавливала танки. А при стрельбе по пехоте она была очень эффективна: стрельба короткими очередями осколочными снарядами с взрывателем ударного действия – это давало большое количество осколков при встрече снаряда с любым препятствием. Не случайны большие потери пехоты противника от огня 37-мм зенитных пушек.
 Для успешного решения задач по уничтожению танков противника зенитные дивизионы корпусного района ПВО и батареи наземной артиллерии фронтов установили единую сигнализацию открытия и прекращения огня, подготовили исходные данные для стрельбы по наземным целям, организовали взаимное огневое прикрытие и связь между командными пунктами.
Для успешного решения задач по уничтожению танков противника зенитные дивизионы корпусного района ПВО и батареи наземной артиллерии фронтов установили единую сигнализацию открытия и прекращения огня, подготовили исходные данные для стрельбы по наземным целям, организовали взаимное огневое прикрытие и связь между командными пунктами.
В ходе оборонительных боев зенитные части корпусного района ПВО несли значительные потери личного состава и материальной части. Из оставшегося личного состава неоднократно создавались истребительные батальоны. Например, 8 октября из личного состава 748 зенитного артиллерийского полка, потерявшего в боях всю технику, был сформирован истребительный батальон четырёхротного состава: две стрелковые роты, одна рота автоматчиков и рота бронебойных ружей – всего 400 бойцов. Это всё, что осталось от полка!
И всё же, несмотря на практически непрерывную борьбу с наземными силами врага, зенитные артиллерийские и пулеметные части корпусного района ПВО, отражая налеты фашисткой авиации, прицельным (сопроводительным) огнем сбили 204 самолета, заградительным – 1, при стрельбе по пикирующим самолетам и штурмовикам – 165. Средний расход снарядов на один сбитый самолет зенитной артиллерией среднего калибра составил 700 снарядов, зенитной артиллерией малого калибра - 525 снарядов.
Опыт боев в Сталинграде показал нецелесообразность расположения зенитных пулеметов на крышах и площадках зданий: бомбометание в городе осуществлялось чаще всего с высот, недосягаемых для зенитно-пулеметного огня. Боевая работа расчетов была невозможна из-за густых клубов дыма и пламени горевших зданий. Более целесообразным оказалось применение зенитных пулеметов для прикрытия позиций зенитной артиллерии от пикирующих самолетов и пехоты противника, при размещении их на земле.
Аэростаты заграждения в облачную погоду днем не поднимались, поскольку истребители противника расстреливали их еще до достижения ими нижней кромки облаков. Ограничивали боевую работу расчетов, характерные для Поволжья, частые сильные и порывистые ветры. Заслуживает внимания эпизод, когда в ходе одной из многочисленных атак Люфтваффе командир Сталинградского корпуса ПВО был вынужден отдать приказ поднять аэростаты днем. Он хорошо понимал последствия, ибо аэростаты не были взаимно защищены огнем зенитной артиллерии, и немецкие самолеты их сжигали атаками с воздуха. Что же заставило командира отдать такой приказ? А вот что. Бой был затяжной, на батареях кончился боезапас. Нужно было ждать ~ 1,5 часа, так как его доставляли с другого берега Волги. Это ставило зенитную артиллерию под прямой прицельный удар бомбардировщиков, ибо без снарядов она – мишень для самолетов. Поэтому командир корпуса и пожертвовал аэростатами, выиграв время для доставки боеприпасов зенитной артиллерии, пока немецкие самолеты вели бой с аэростатами.
А бои шли непрерывно. Фашисты остервенело, рвались к Волге, к переправам.
Утром 4 сентября на огневые позиции 12-й батареи 1087 зенитного артиллерийского полка, прикрывавшей переправу через Волгу у деревни Латошинка, двинулись фашистские танки, а с воздуха на нее обрушились пикирующие бомбардировщики. Командир батареи лейтенант М. Баскаков приказал одновременно вести огонь по танкам и самолетам. Прямыми попаданиями было подожжено несколько танков, затем камнем упал на землю «Юнкерс». На батарею обрушился массированный огонь вражеских пушек и пулеметов. Бой продолжался весь день, Фашисты окружили батарею с трех сторон, а сзади открывался обрывистый берег Волги. Кончались боеприпасы, оставалось всего несколько бутылок с горючей жидкостью. Но зенитчики стояли насмерть. Следующий день оказался еще более напряженным. Неравный бой продолжался. Несколько раз немцы предлагали зенитчикам сдаться в плен. Но те, подпуская фашистов на близкое расстояние, расстреливали их в упор. А когда последний снаряд выпустили по атакующей пехоте, зенитчики сбросили свои пушки с обрыва в Волгу, и огнем из личного оружия продолжали вести бой. Но вот кончились и патроны. Тогда во главе к комбатом бойцы бросились на врага в рукопашную схватку. 43 отважных зенитчика остановили танки врага, отбили налеты фашистской авиации, отстояли берег от вражеской пехоты до подхода наших основных сил. И таких примеров – не один десяток.
Героически сражались с неприятелем батареи 1079 и 748 зенитных артиллерийских полков, которые в течение 13 сентября, когда немецко-фашистские войска начали штурм Сталинграда, активно поддерживали наши войска и одновременно отражали воздушные налеты.
14…16 сентября неприятель крупными силами вел наступление на южную и центральную части города в направлении на станцию Сталинград-2. Батареи 1079 и 748 полков вели упорные бои с наземным противником. С 25 по 29 сентября в ожесточенных боях 748 полк понес большие потери и по приказу командования корпусного района ПВО переправился на левый берег Волги.
В связи с осложнившейся к исходу сентября обстановкой указанием командующего войсками Сталинградского фронта перед Сталинградским корпусным районом ПВО были поставлены задачи: основными силами зенитной артиллерии оборонять переправы через Волгу в районе Сталинграда и южнее его, а также группировку артиллерии на левом берегу Волги; частью сил зенитной артиллерии оборонять с воздуха и поддерживать в борьбе с наземным противником основные силы 62-й армии, ведущие бои в городе; силами зенитной артиллерии, бронепоездами и истребителями 102 ИАД обеспечить прикрытие с воздуха железнодорожных участков Палласовка – Верблюжья и Баскунчак – Ахтуба.
В соответствии с этим приказом на главном участке обороны в Сталинграде, где сражались основные силы 62-й армии генерала Чуйкова, была поставлена зенитная артиллерийская группа подполковника Г. Ершова в составе 1087 зенитного артполка малого калибра, усиленного тремя батареями среднего калибра и ротой зенитных пулеметов. На других участках, а также на левом берегу для прикрытия переправ и группировки были поставлены силы и средства других пяти полков ЗА, а также отдельные зенитные артдивизионы и прожекторный полк.
Авторы: Игорь Докучаев, Юрий Пищиков, Андрей Куприянов
- 1318 просмотров
Стражи неба. Часть 9. В борьбе за город Сталина

14 октября 1942 года в районе Сталинграда развернулись самые ожесточенные бои. 8 гитлеровских дивизий направили главный удар по заводам города. Путь своим войскам фашисты расчищали мощными ударами с воздуха. Для этой цели на Сталинград вновь были брошены все силы 4-го воздушного флота. Утром после мощной артиллерийской и авиационной подготовки противник перешел в наступление. Артиллерийская канонада, начавшаяся на рассвете, не прекращалась до поздней ночи. В этот день немецкая авиация произвела более 2000 самолетовылетов в район заводов. Силы были слишком неравны. Во второй половине дня до 180 танков, пройдя через боевые порядки наших войск, вышли в район Северного стадиона и тракторного завода. Отдельным группам гитлеровцев удалось прорваться в цехи завода. Ценой огромных потерь противник к исходу 15 октября захватил тракторный завод и вышел в этом районе к Волге, отрезав от главных сил 62-й армии часть её соединений.
Наиболее напряженные бои с воздушным и наземным противником пришлось вести зенитчикам группы подполковника Г. Ершова. 15 октября противнику удалось прорвать боевые порядки 1087 зенитного артполка, отрезать 2-й дивизион полка и 2 батареи среднего калибра. В течение 16 октября гитлеровцы при поддержке 20 танков атаковали отрезанные батареи, одновременно подвергая их боевые порядки ожесточенной бомбардировке с воздуха. Артиллеристы упорно отбивали яростные атаки. После выхода из строя орудий бойцы продолжали отражать натиск врага огнем из винтовок, автоматов и гранатами. В ночь на 17 октября они пробились из окружения, и вышли в расположение 124-й стрелковой бригады.
Своими основными силами полк до конца октября стойко удерживал занимаемый рубеж. К концу месяца материальная часть 1-го дивизиона полностью вышла из строя. Его личный состав, вооружившись винтовками и автоматами, занял рубеж обороны и продолжал героически сражаться за каждую пядь земли. Батареи других дивизионов, еще имевшие исправную матчасть, по-прежнему продолжали отражать налеты вражеской авиации.
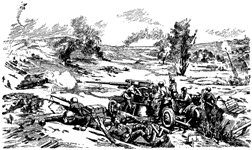 1087 зенитный артполк Г. Ершова вел бои на правом берегу Волги до ноябрьского наступления наших войск, уничтожив за весь период битвы 78 фашистских самолетов. За стойкость и мужество личного состава в борьбе с фашистскими захватчиками приказом Наркома обороны СССР 1087 зенитный артполк был переименован в 73-й гвардейский зенитный артиллерийский полк малого калибра.
1087 зенитный артполк Г. Ершова вел бои на правом берегу Волги до ноябрьского наступления наших войск, уничтожив за весь период битвы 78 фашистских самолетов. За стойкость и мужество личного состава в борьбе с фашистскими захватчиками приказом Наркома обороны СССР 1087 зенитный артполк был переименован в 73-й гвардейский зенитный артиллерийский полк малого калибра.
Однако в этот период Ставкой уже готовилось окружение немецкой группировки войск под Сталинградом. 19 ноября (теперь это День артиллерии и ракетных войск) началось артиллерийское наступление, которое закончилось разгромом немецко-фашистских войск. Сталинград остался в наших руках. Войска ПВО в битве за Сталинград сбили 699 самолетов противника и внесли неоценимый вклад в борьбу с наземным противником.
***
К сожалению, за последние десятилетия появилось множество всякого рода сомнительных произведений, особенно на телевидении, которые представляют Советский Союз, нашу Красную Армию в кривом зеркале, в том числе и Сталинградскую битву. Ярким примером стала американская фальшивка – фильм 2001 года «Враг у ворот».
Фальсификаторы направо и налево орудуют десятками миллионов убитых и репрессированных. Расчет ведется на исторически несведущего примитивного обывателя, не умеющего анализировать события, не желающего знать, что было вчера и не понимающего, что происходит сегодня. Все сведения, которые мыприводим, строго документированы и на них имеются ссылки на архивные военные документы, которые докладывались Сталину.
 Что касается американского фильма «Враг у ворот», то это - примитивная фальшивка. Набор стандартных антисоветских штампов и жупелов 50-х годов: здесь и заградотряды, которые гонят в атаку красноармейцев, и одна винтовка на троих, злобные примитивные энкаведешники и евреи-комиссары, и многое другое. Они даже форму советского солдата неправильно воспроизвели.
Что касается американского фильма «Враг у ворот», то это - примитивная фальшивка. Набор стандартных антисоветских штампов и жупелов 50-х годов: здесь и заградотряды, которые гонят в атаку красноармейцев, и одна винтовка на троих, злобные примитивные энкаведешники и евреи-комиссары, и многое другое. Они даже форму советского солдата неправильно воспроизвели.
К этому же ряду фальшивок можно отнести также фильмы «Курсанты», «Дети Арбата»», «Штрафбат» и другие, созданные доморощенными российскими антисоветчиками. Правда о заградотрядах заключается в следующем: их задача – охрана тыловых коммуникаций от диверсантов, возврат назад бегущих (они находили командиров и всех отсылали назад). Не было ни одного случая стрельбы по своим войскам.
Все эти фальшивки о Великой Отечественной войне, о мужестве всего советского народа и его армии, о Верховном Главнокомандующем И.В. Сталине – яркое проявление трусости явных и скрытых антисоветчиков. Они боятся его даже усопшего, они в глубине души думают: не дай бог, если это, или ему подобное время, вернется. Фальсификаторам лично и их покровителям (прежде всего финансовым) не будет такого разгула, такой разнузданности, какие они позволяют себе сейчас.
Однако многовековая история подтверждает, что её развитие идет «по спирали», каждый виток которой имеет более высокий уровень, и то, что существовало около века (Советский Союз), никогда не канет в лету. Не забудется и название – Сталинград, где отразилась душа, менталитет всего нашего народа, а не только воинов, его отстоявших. Во многих городах мира есть площади и улицы, носящие имя Сталина и Сталинграда. А в России его имя пытаются запачкать, заодно пачкая имя народа, а, стало быть, и всей страны, ее историю. Даже наши заклятые враги, куда более последовательные антисоветчики, чем наши доморощенные, ценили Сталина. Это и Черчилль, и другие руководители западных стран. Заслуживают внимания высказывания о Сталине руководителей фашистской Германии. В 1991 году в русском переводе опубликованы «Мемуары В. Шелленберга», руководителя политической разведки фашистской Германии, который приводит высказывание Рейнхарда Гейдриха, шефа главного управления имперской безопасности, сделанные 16 июля 1941 год.
Вот эти слова:
 «Гитлер желает неограниченно, не останавливаясь ни перед чем, использовать в России все организации, находящиеся в ведении Рейхсфюрера СС Г. Гиммлера. На востоке в самое короткое время необходимо создать мощную информационную службу, которая должна работать столь безошибочно и слаженно, чтобы не смогла возникнуть такая личность, как Сталин. Опасны не массы русского народа сами по себе, а присущая им сила порождать такие личности, способные, опираясь на знание души русского народа, привести массы в движение».
«Гитлер желает неограниченно, не останавливаясь ни перед чем, использовать в России все организации, находящиеся в ведении Рейхсфюрера СС Г. Гиммлера. На востоке в самое короткое время необходимо создать мощную информационную службу, которая должна работать столь безошибочно и слаженно, чтобы не смогла возникнуть такая личность, как Сталин. Опасны не массы русского народа сами по себе, а присущая им сила порождать такие личности, способные, опираясь на знание души русского народа, привести массы в движение».
Из той же книги можно процитировать слова начальника Гестапо Мюллера, который летом 1942 г. в доверительной беседе сказал Шелленбергу:
 «Я не вижу у себя выхода, но все больше склоняюсь к убеждению, что Сталин стоит на правильном пути. Он неизмеримо превосходит западных государственных деятелей, и если уж говорить начистоту, нам следовало бы как можно скорее пойти с ним на компромисс. Это был бы такой удар, от которого Запад с его проклятым притворством уже не оправился бы».
«Я не вижу у себя выхода, но все больше склоняюсь к убеждению, что Сталин стоит на правильном пути. Он неизмеримо превосходит западных государственных деятелей, и если уж говорить начистоту, нам следовало бы как можно скорее пойти с ним на компромисс. Это был бы такой удар, от которого Запад с его проклятым притворством уже не оправился бы».
Городу на Волге должно быть возвращено его законное имя - Сталинград. Это требование фронтовиков, участников войны и всех патриотов Советского Союза.
Авторы: Игорь Докучаев, Юрий Пищиков, Андрей Куприянов
- 468 просмотров